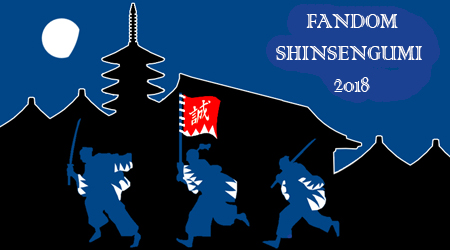Внимание!
Размер: ~20 000 слов
Пейринг/Персонажи: Абэ-но Сэймэй|Минамото-но Хиромаса, исторические персонажи в эпизодах
Категория: джен, броманс на грани преслэша
Жанр: боевик, hurt/comfort, ангст
Рейтинг: PG-13
Предупреждения: AU, практически оридж, смерть персонажа
От автора: Пример того, как далеко может завести чрезмерное внимание к деталям. В процессе работы над "Где брат твой?" я штудировала "Сказание о Ёсицунэ" и наткнулась на упоминание Девятилетней войны - о том, как предок Ёсицунэ, отважный Минамото-но Ёсииэ, прищучил коварных колдунов Абэ. Как выяснилось, это были не те Минамото, к которым принадлежал Хиромаса, но мысль "а что было бы, если бы Сэймэй и Хиромаса родились во враждующих семьях" уже пустила корни и пошла колоситься. Пришлось заодно прошерстить и "Муцу ваки", а также парочку подвернувшихся под горячую руку статей - про завоевание Шести округов, про особенности произношения "эмиси", про "марэбито" и шаманские практики... Впрочем, в результате всё равно получился редкостный винегрет, где на одну историческую деталь приходятся две-три вымышленных ради удобства натягивания совы на глобус. Да, ещё и из "Повести о доме Тайра" позаимствован один весьма узнаваемый момент.

Что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу
У края земли встаёт?
Р. Киплинг, "Баллада о Востоке и Западе"
Пятый год девиза Тэнки (1057)
...в одиннадцатом месяце того же года военачальник Ёриёси повёл войско в тысячу восемьсот человек чтобы разгромить Абэ-но Садатоо. Садатоо же с четырьмя тысячами отборных воинов и опорным пунктом в крепости Камисаки, принадлежавшей Кон-но Тамэюки, дал бой в Киноми.
В то время дороги стали почти непроходимы из-за метели. У государева войска истощился провиант, люди и лошади устали. Мятежники же скакали на свежих лошадях и бросились на врага. И дело не только в том, что мятежники сражались на своей земле, числом они тоже сильно превосходили войска Ёриёси.
Государевы войска были разбиты, и полегло несколько сот человек.
"Сказание о земле Муцу"
Если в начале похода кто-то ещё сомневался в том, что им противостоят не обычные люди, то нынче никаких сомнений не осталось. Только колдунам под силу обрушить на противника трёхдневную метель — такую, что лошади вязнут в сугробах по брюхо, а древки знамён ломаются под тяжестью налипшего на полотнища снега. И разве могло быть случайностью, что погода испортилась как раз в то время, когда варвары получили подкрепление и начали теснить воинство Минамото на юг?
Три дня они отступали вдоль предгорья Ацукаси, и за эти три дня они ни разу не видели солнца. Свинцовые облака висели низко, прижимая измученных людей к земле; те, кто поднимал взгляд к небу, надеясь увидеть хоть проблеск светлого лика Аматэрасу, получал лишь заряд снега в лицо. Блистающая не хотела помочь своим потомкам, заплутавшим во мраке на тропах чужой земли.
Или — не могла помочь? Сама мысль об этом была кощунственной, но кто мог сказать наверняка, на что способны здешние боги и поклоняющиеся им чародеи? Воины угрюмым шёпотом рассказывали про великана Рёсё, младшего из сыновей Абэ-но Ёритоки; этот Рёсё умел вызывать туман, ослепляя врага, а в случае погони мог целыми днями прятаться в реке, как выдра. Да что там Рёсё — все эти Абэ, полуварвары, многократно смешавшие кровь с безбожными эмиси и сами подобные им, слыли колдунами, искусными в чарах и обмане. Нынешний снегопад, сковавший войско Минамото на пути к реке Суруками, был, несомненно, плодом их чёрной ворожбы.
К ночи ветер усилился, а снег повалил ещё гуще, превращая воздух в колючую, жалящую лицо ледяную взвесь. Самураи прикрывали рты и носы платками — иначе невозможно было дышать. Понурые кони спотыкались в сугробах; они и так держались из последних сил — усталые, недокормленные.
Поражение. Никто пока не произнёс этого слова вслух, но оно реяло над изнемогшими людьми, как тень от крыльев Нуэ, навевающих страх в сердца. Никто уже не помышлял о богатой добыче, о завоевании земель и крепостей. Снежные просторы земли Муцу остудили слишком горячие головы воинов из Бандо; теперь они мечтали лишь о том, чтобы добраться живыми до реки, расседлать коней и отдохнуть.
И ещё — чтобы прекратилась метель.
Хиромаса ехал во главе своего отряда — вернее, плёлся трусцой, уже не понукая измученного Черныша. День, когда они вихрем мчались вдоль пограничных холмов Сидзуоки, догоняя уходящее на север воинство, казался далёким и неправдоподобным, как наполовину забытый сон. Солнечное тепло, блеск многоцветных доспехов, упоение быстрой скачкой и восторг в предвкушении славы — этим воспоминаниям не было места среди вьюжных сумерек, под ударами вымораживающего до костей ветра, в окружении таких же замёрзших, сгорбившихся в сёдлах всадников.
Он присоединился к Минамото-но Ёриёси весной нынешнего года, когда был назначен сбор нового войска для карательного похода против мятежника Абэ-но Ёритоки. Мать Хиромасы и жена Ёриёси были единокровными сёстрами, и полководец с радостью принял под свои знамёна молодого родича, а с ним и пять десятков крепких молодцов, знающих, с какой стороны стрелы вострят.
Поначалу всё шло прекрасно: соратникам Ёриёси удалось перетянуть на свою сторону вождей трёх варварских племён. Абэ-но Ёритоки, поднявший мятеж, был сражён случайной стрелой. Казалось, сопротивление северян вот-вот будет сломлено, как бамбуковая щепочка — но сыновья Ёритоки не спешили складывать оружие, и с наступлением холодов удача повернулась к Минамото спиной. Теперь они отступали к реке, а воины Садатоо, старшего сына Ёритоки, шли за ними по пятам, как волчья стая за ослабевшими от бескормицы оленями.
И ещё этот снегопад, словно нарочно преграждающий путь к спасению...
Хиромаса потряс головой, прогоняя сонливость, и снег посыпался со шлема на рукава. Дремать было нельзя — холод заползал под доспехи, руки и ноги немели. Если позволить себе закрыть глаза, можно сомлеть и свалиться на землю. И ещё хорошо, если остальные заметят его падение — а то так и поплетутся дальше, не видя ничего, кроме слепой круговерти белых хлопьев. В этот глухой час между сумерками и ночью зрение притупляется, чувства обманывают, и самых стойких тянет в сон.
Неудивительно, что эмиси выбрали именно это время для нападения.
...Они сами казались порождениями вьюжных сумерек — воины на мышастых и вороных конях, в белых накидках, что до последнего мгновения делали их невидимыми. Свист ветра в верхушках деревьев заглушил и стук копыт, и пение первых стрел, посланных в плотно сбитую толпу. Лишь когда несколько человек упали, Минамото поняли, что угодили в ловушку — и над войском хрипло затрубили сигнальные раковины.
Но было уже поздно. Отряды легковооружённых, стремительно движущихся всадников врезались несколькими клиньями в медленно ползущую колонну, рассекая её на части. К тому времени, как тревожные сигналы докатились до головных и замыкающих отрядов, в середине войска уже кипела бойня.
...Выжившие потом рассказывали: эмиси атаковали так быстро, что воины Минамото не успевали натянуть луки. Скрытые метелью враги бросались на них из ниоткуда, как сокол-хаябуса падает сверху на беззащитного фазана, разили и исчезали в снежной мгле, обгоняя посланные вслед стрелы. Резвость их коней превосходила воображение, а удары они наносили с такой скоростью, с какой молния поражает сухое дерево.
Хиромаса не согласился бы с теми рассказчиками. Да, в первые мгновения среди толчеи, криков и ржания мечущихся коней ему тоже казалось, что эмиси налетают с немыслимой, нечеловеческой быстротой — и падали слева и справа воины-южане, срубленные хлёсткими ударами с наскока; и выпущенные впопыхах стрелы уходили в снежное молоко, обидно и бесполезно. Но когда из метельной круговерти вылетел всадник на белом коне — тогда Хиромаса вдруг понял, что все вокруг движутся медленно и плавно, словно под водой, и у него полным-полно времени, чтобы отбросить лук, вытащить меч и приготовиться к обороне.
Он успел разглядеть врага — его одежду странного покроя, с чужеземной вышивкой наподобие переплетающихся змеиных тел, и белую повязку с теми же узорами, охватывающую лоб варвара, и под этой повязкой — совершенно дикие, горящие, как у волка, глаза. Успел разглядеть даже его коня — широкие ноздри, прижатые уши, цветные кисти на уздечке и серебряную монетку, привязанную к пряди длинной белой гривы. Всё происходило так медленно, что он видел, как грудь коня раздвигает, рассекает курящиеся белые вихри; как снежная пыль вьётся струйкой с лезвия меча, отведённого назад, словно стрижиное крыло.
А потом бесконечно тянущееся время рванулось вперёд, как отпущенная тетива. Черныш и белый конь налетели друг на друга, сшиблись, яростно молотя копытами; Хиромаса увидел над собой вражеский меч — стремительный росчерк лунного света, хотя луны не было видно за тучами — и принял удар на обух клинка, на самую прочную часть.
Мечи столкнулись и разошлись, но варвар потратил на одно мгновение больше, чтобы поднять оружие снова, и Хиромаса уже знал, что опередит его на следующем взмахе, успеет ударить под вскинутую руку, пока кони не разнесли их в разные стороны. Сквозь не защищённое доспехами тело меч пройдёт как сквозь связку соломы...
Белый конь толкнул Черныша мощной грудью, и тот качнулся в сторону — немного, но Хиромасе пришлось чуть наклониться в седле, удерживая равновесие. Клинок, нацеленный в открытый бок варвара, пошёл чуть выше.
Варвар откинулся в седле, почти лёг спиной на круп коня, крепко сжал коленями его бока; отвечая движению всадника, конь рванулся вперёд, и меч Хиромасы рассёк лишь густой от метели воздух. На краю зрения мелькнуло что-то белое — край одежды? рукав? — а потом чужой клинок сильно, с оттягом хлестнул его по нагруднику. Сталь с визгом и скрежетом проехалась по набору из жёсткой лакированной кожи.
В отличие от варвара, у Хиромасы были хорошие доспехи, но удар, пришедшийся по рёбрам, лишил его дыхания. Согнувшись, он почти повис на шее коня, уцепился за гриву. Больно не было — только воздух не шёл в горло. Если бы варвар сейчас нанёс ещё один удар, Хиромасе пришёл бы конец; но Черныш, не останавливаясь, промчался сквозь ряды дерущихся и вырвался из боя, оставив противника далеко позади.
Понемногу втягивая ледяной воздух, Хиромаса попытался осадить коня, но тщетно: Черныш рвался вперёд, упрямо закусив удила. Он летел по зарослям напролом, не слушая узды; всадник чуть не потерял стремя и несколько мгновений боролся за равновесие.
Мало-помалу ему удалось утвердиться в седле, натягивая поводья. Черныш наконец почуял хозяйскую руку и успокоился, сбавил ход. Потом остановился, раздувая потные бока и дико кося тёмным глазом.
— Тише, тише, — Хиромаса похлопал его по шее. — Чего это ты испугался?
Они довольно сильно отдалились от места сражения, и звуки боя сюда уже не долетали. Хиромаса вложил меч в ножны и мельком удивился: рука едва слушалась, словно онемела после схватки, и перед глазами мельтешили раздражающие чёрные точки. Да и рёбра всё ещё немного ныли от ушиба.
Надо было вернуться к своим. Сбегать из боя, едва обменявшись ударами, — несмываемый позор. И оправданий про молодого и своенравного коня никто слушать не станет. Это если ещё будет перед кем оправдываться — а то, может, останется только сложить голову рядом с земляками, под одним сугробом...
Да нет, не может быть. Не настолько слабо воинство Минамото, чтобы рассыпаться от одного наскока. Они ещё дерутся, надо только понять, в какую сторону двигаться... ох, ну и темень же в этом проклятом лесу!
Черныш всё беспокоился, дёргал головой, отфыркивался. Хиромаса рассеянно потрепал его по гриве — и с удивлением сжал руку, обнаружив, что рукавица стала влажной.
Грива коня была в крови. Хотя Хиромаса точно помнил, что не успел зацепить варвара даже кончиком клинка. И Черныша тоже не ранили в этой стычке. Про него самого и говорить нечего — он-то был в доспехах.
Только почему-то... Почему-то рукав под наплечником тоже был мокрым, и неприятная сырость просачивалась к локтю.
Не веря своим глазам, Хиромаса пощупал липкую ткань.
Как, ну как это возможно? Ведь доспехи же!
Он провёл ладонью по нагруднику в том месте, где пришёлся удар, — края рассечённых пластинок слегка царапнули ладонь. И распоротая ткань хитатарэ под ними тоже промокла. А неслабый, оказывается, был удар у того варвара...
Ладно, сказал он про себя. Может, там и есть какая-нибудь ранка. Неглубокая. Конечно, доспех принял весь удар на себя, а на коже осталась только царапина. Не мог же он — смешно сказать! — не заметить, что его ранили всерьёз. Не бывает так. Вот просто не бывает.
Надо было определить, наконец, в какой стороне остались свои, и возвращаться к ним. Но мысли как-то нехотя катались в голове; ему потребовалось время, чтобы сообразить, что надо просто развернуть коня и ехать по собственным следам.
Черныш ещё не вполне успокоился, но слушался коленей и узды. Хиромаса направил его по едва заметным ямкам в снегу, оставленных его же копытами. Они ехали, прислушиваясь к лесным шорохам — но то ли бой успел переместиться, то ли непрекращающийся снегопад заглушал все звуки.
Ямки в снегу сгладились. И исчезли.
Пока Хиромаса шатался по лесу, метель засыпала и разровняла все следы.
Он огляделся в поисках хоть какой-то подсказки, но его окружали только молчаливые деревья. Сумерки окончательно перешли в ночь; теперь Хиромаса не был уверен, что сможет проехать хотя бы один полёт стрелы, не сбившись с прямого пути.
И ещё с ним творилось что-то неладное. Минуту назад он не чувствовал холода, словно был под хмельком — а теперь у него зуб на зуб не попадал, озноб охватил руки и ноги и подползал к сердцу. И грудь болела всё сильнее — не тупой болью ушиба, а так, словно его ненароком перерубили надвое.
Хотя... похоже, это было недалеко от истины. Хиромаса ещё раз ощупал себя — и с отстранённым тупым спокойствием понял, что и доспехи, и кожаные наштанники, и даже седло под ним залито кровью.
После этого случился какой-то провал. Во всяком случае, он вдруг обнаружил, что лежит прямо в снегу, растянувшись на спине. Холод уже не вызывал дрожи — казалось, всё тело сковано льдом, вморожено в медленно растущий сугроб.
Из последних сил, из остатков упрямства он попытался подняться, но руки уже не сгибались.
"Ну и дурак же я", — успел подумать он, уплывая в забытье.
***
Старые опытные воины рассказывали: замерзая насмерть, человек перестаёт чувствовать холод и словно бы погружается в глубокий сон, от которого нет пробуждения. Каким-то уголком сознания Хиромаса ещё понимал, что с ним происходит именно это, что разливающееся по телу ощущение тепла и приятная истома — лишь признаки скорого конца. Но не было сил противиться тяжёлой, смыкающей веки дремоте — и он позволил себе соскользнуть в предсмертное оцепенение, в последний сладостный обман чувств.
Ему снилось тепло — всё, какое только существует в мире. Жар растопленного очага, треск углей, красноватый отсвет огня, играющий на прикрытых ресницах. Нагретый камень в ногах, приятно обжигающий ступни. Уютная тяжесть звериных шкур, щекочущее прикосновение меха к голым плечам и животу. И — горячее сонное тело, прильнувшее к нему со спины, ни с чем не сравнимое ощущение гладкой кожи на своей коже, шелковистая мягкость волос, льющихся с плеча на плечо, тепло чужой ладони на груди...
Тепло окутывало его, уводя из заснеженного леса в блаженную грёзу, где он нежился у очага под грудами мехов, в объятиях прекрасной женщины; и было уже всё равно, во сне или в бреду привиделись ласковые руки на плечах, гибкое тело, что всё теснее льнуло к нему, согревая жарким дыханием... Пусть так. Если смерть напоследок дарит ему упоительный мираж — надо насладиться им сполна.
Подчиняясь странной и приятной игре воображения, Хиромаса закинул руку назад и погладил женщину по крепкому бедру. Но предаваться ласкам в таком положении было неудобно, следовало повернуться на другой бок или хотя бы на спину.
Он опёрся на локоть, чтобы привстать — и боль стегнула по рёбрам, как бич, выбивая дыхание из груди. Слишком острая для сна. Слишком настоящая. Хиромаса охнул и повалился обратно в груду мехов, непроизвольно прижав руку к больному месту.
Ладонь наткнулась на шершавое полотно. Его грудь была в несколько слоёв обмотана тряпками, и под ними прощупывался ещё слой каких-то листьев.
Это уже точно не могло быть сном. Моргая затуманенными глазами, Хиромаса растерянно оглядел незнакомое тёмное помещение, освещённое только огнём из очага, дощатые стены, постель из звериных шкур, на которой он лежал... и лежал не один.
Женщина за его спиной пошевелилась, сонно пробормотала что-то и опять затихла, не размыкая рук, сцепленных у Хиромасы на груди.
Не рискуя больше подниматься, он до отказа повернул голову, силясь через плечо разглядеть ту, что согревала ему ложе. Темнота скрадывала черты; удалось различить только белое плечо, наполовину прикрытое волной чёрных волос, шею да краешек нежной щеки. От волос шёл слабый горьковатый аромат лаванды и полыни.
Голова закружилась от напряжения, и Хиромаса снова вытянулся под мехами. Закрыл глаза и попытался привести смятенные мысли в порядок.
Итак, он не умер. Кто-то привёз его в этот дом, перевязал и отогрел. Вот только кто? Кругом на три дня пути не нашлось бы селения, где согласились бы приютить раненого из войска Минамото. Разве что какой-нибудь монастырь — но монахи точно не стали бы подкладывать ему женщину.
А что если.... От этой мысли его бросило в пот: что если он в плену? Может быть, его лечат и согревают лишь затем, чтобы он не умер раньше времени, пока из него пытками не вытянут всё, что он знает о войске Ёриёси, о числе воинов и коней, об оружии и припасах, о намеченных путях отступления, о союзниках по ту и эту сторону реки?
Хиромаса сжал зубы и приподнялся. Боль с новой силой запустила когти в тело, но он ждал её и сдержал стон. Оттолкнулся от постели и быстро перевернулся, выскальзывая из объятий спящей женщины и подминая её под себя. Он не собирался причинять ей вред — только придержать, чтобы не подняла тревоги, и допросить. Конечно, девке, которой приказали обиходить ценного пленника, вряд ли было известно многое, но она могла по крайней мере рассказать, где и в чьих руках он находится.
Она почувствовала его движение, вскинулась; Хиромаса успел разглядеть бледное темнобровое лицо, расширенные в полумраке глаза — и всей тяжестью навалился на неё, одновременно ловя и сжимая руками её запястья...
Твёрдое, словно круглый камень, колено с силой врезалось ему в живот. Меховое одеяло смягчило удар — но и смягчённый, он так отдался в рану, что Хиромаса мешком скатился с непокорной добычи и скорчился, хватая ртом воздух. Ничего не видя от боли, кроме зелёных кругов перед глазами, он наугад взмахнул руками, задел чужие длинные волосы, ухватил их и рванул, подтягивая мерзавку к себе.
В следующий миг к его шее под челюстью прижалось что-то холодное и очень острое.
— Отпусти, — проговорил низкий голос, чуть задыхающийся, но спокойный и отдающий сталью, как лезвие у горла.
Хиромаса захлопал глазами, не в состоянии издать ни звука.
Женщины не было. В обманчивом полумраке над ним склонялся юноша, с виду его ровесник или даже немного младше. Теперь уже невозможно было ошибиться: незнакомец был обнажён, как и Хиромаса, если не считать набедренной повязки, и в его гибком худощавом теле не было ничего женоподобного. И черты лица, хоть и тонкие, принадлежали явно мужчине — подбородок слишком твёрд, алые губы слишком узки, брови слишком густы и резко очерчены. Только кожа, на редкость белая и чистая, ещё могла ввести в заблуждение, да блестящие тёмные волосы, которые Хиромаса сжимал в кулаке, сделали бы честь любой придворной даме.
— Отпусти, — повторил юноша, и лезвие ножа сильнее вдавилось в кожу.
Хиромаса разжал пальцы. Свободной рукой незнакомец собрал волосы, скрутил в жгут и перебросил за спину. Но убирать нож он не спешил, лишь небрежно перевернул его остриём вниз, держа над грудью Хиромасы, над тем местом, где сходятся ключицы. Хватка была расслабленной, но Хиромаса не сомневался: стоит дёрнуться — и это лезвие войдёт в его тело по рукоять.
Левой рукой юноша распутал узел, соединяющий концы повязки, раздвинул тряпицы и открыл рану. Не имея возможности поднять голову, Хиромаса не видел толком, что он там делает, но боль, по крайней мере, не становилась сильнее.
— Ну, вот, — проговорил наконец юноша. — Тебе повезло, швы не разошлись. Но если хочешь сохранить жизнь, то изволь лежать спокойно, пока я не разрешу тебя встать.
У него был глубокий горловой выговор, как у всех северян — открытое "и" в начале слова звучало почти как "э".
— Кто ты такой? — прохрипел Хиромаса. — Что ты со мной делаешь?
— Я? — Юноша вскинул бровь. — Лечу тебя, если ты ещё не догадался.
— Для этого обязательно было лезть ко мне в постель?
— Во-первых, это моя постель. Во-вторых, тебя надо было согреть, а это лучший способ вернуть тепло в живое тело. В-третьих, — тут его голос из насмешливого сделался совсем уж ядовитым, — если ты опасаешься за свою честь, то можешь быть спокоен: я посвящён богам и соблюдаю обет воздержания.
Хиромаса скрипнул зубами, соображая, чем бы уязвить его в ответ.
— Если бы я не спал, — нашёлся он наконец, — то это твоя, а не моя честь оказалась бы в опасности!
Юноша залился смехом.
— А ты, оказывается, хвастун. Уверяю тебя, моей чести ничто не угрожало. После такой потери крови тебя не расшевелила бы даже пляска Амэ-но Удзумэ.
Укол был справедливым и поэтому особенно обидным. Будь Хиромаса здоров, наглец по уши умылся бы кровью — чтобы впредь неповадно было насмехаться над мужской силой сыновей Минамото. Но боль в груди не давала толком вдохнуть, и в основание шеи по-прежнему упирался острый кончик лезвия.
Словно угадав его мысли, юноша отложил нож, заново стянул повязку на груди Хиромасы и закрепил концы. Набросил на него одеяло, потом отодвинулся и сел на пятки возле постели, с весёлой ухмылкой разглядывая его, как зверя неизвестной породы.
Хиромаса мрачно уставился на него в ответ. Теперь, когда юноша улыбался, было видно, что он всё-таки помладше — поди, и двадцати вёсен не насчитал. Его белая кожа как будто вовсе не знала загара, что немало озадачило Хиромасу: до сих пор он полагал, что тут живут только страховидные, косматые и смуглые от горного солнца варвары. Этот же был словно из другой глины вылеплен — нос прямой и тонкий, тёмные волосы лежат гладко без всякого гребня, скулы и подбородок словно резцом выточены. Самый придирчивый ценитель нашёл бы лишь один изъян в его внешности — слишком белые зубы. В остальном же, будь этот юнец одет и причёсан как должно, он сошёл бы за самого что ни на есть благородного отпрыска любой из знатных фамилий столицы.
Откуда он взялся в этой глуши, такой чудной? И ведь не побоялся оказать помощь чужаку, хотя наверняка знает, что Садатоо распорядился не щадить никого из перешедших реку. И врачеванию, поди ж ты, обучен. И с ножом обращаться умеет. Хотя в здешних краях это не редкость — пограничье, как-никак.
Тем временем юноша, видно, призадумался о чём-то, потому что улыбаться вдруг перестал.
— На твоей одежде вытканы цветы горечавки, — сказал он. — Ты из Гэндзи? Из какой ветви?
— Прежде сам назовись, — хмуро потребовал Хиромаса. — Я не могу открыть имя низкорожденному.
Юноша пристально взглянул на него, но после недолгого молчания всё-таки ответил:
— Я Абэ-но Сэймэй, сын Абэ-но Ясуны, двоюродного брата правителя Муцу, прямой потомок Абэ-но Хирафу, покорителя севера. Мой род достаточно высок, чтобы ты мог назвать мне своё имя?
Ему хватило наглости назвать Садатоо правителем Муцу, хотя государевым указом эта должность была передана Минамото-но Ёриёси, а в нынешнем году при дворе должны были избрать нового наместника ему на смену. Но Хиромаса оставил эту оговорку без внимания.
О, да, незнакомец оказался достаточно знатен, чтобы Хиромаса мог, не роняя достоинства, назваться ему. Хотя сам он предпочёл бы оказаться в гостях у кого-нибудь менее знатного — потому что, открыв своё имя родичу Садатоо, родич Минамото-но Ёриёси мог рассчитывать только на один вид гостеприимства: высокий и удобный кол у ворот усадьбы, на котором будет красоваться его голова.
Но в роду Дайго-Минамото никогда не рождалось труса, который скрыл бы своё имя из страха перед врагами.
Хиромаса выпрямился, насколько смог, и поднял подбородок.
— Я Минамото-но Хиромаса, сын правителя Сидзуоки Минамото-но Ёсиакиры, потомок государя Дайго в седьмом колене.
Он ожидал чего угодно — изумления, злорадной усмешки, гнева или даже удара мечом. Но Сэймэй только покачал головой — не понять, удивлённо или опечаленно.
— Так ты не родственник Ёриёси, — проговорил он наполовину утвердительным тоном. Как будто ему очень хотелось услышать в ответ, что Хиромаса никак не связан с ветвью Сэйва-Минамото. Но и на этот раз невозможно было унизить себя ложью:
— Я его племянник со стороны жены — супруга Ёриёси приходится мне тёткой. — Хиромаса перевёл дыхание: от длинных фраз грудь болела сильнее. — Я благодарен тебе, Абэ-но Сэймэй, за то, что ты удержал во мне жизнь. Если бы я умер от этой раны, то вышло бы, что меня прикончил безвестный эмиси из напавших на нас отрядов, и моё имя было бы запятнано такой бесславной кончиной. Но умереть от руки благородного Абэ — другое дело. Такая смерть не уронит моей чести.
Сэймэй улыбнулся.
— Ты так спешишь умереть?
Хиромаса отвёл глаза. Он не мог ответить "Нет" — это противоречило его гордости. И он не мог ответить "Да" — это было бы ложью, потому что умирать не хотелось. Очень не хотелось. Тепло, только что вернувшееся в его тело, мягкость мехов, даже боль в растревоженной ране — всё это была жизнь, и он упивался каждым её мгновением, каждым вздохом.
Он презирал бы себя до конца жизни, если бы хоть взглядом взмолился о пощаде, но...
— Не стыдись этого.
— Что? — Хиромаса непонимающе взглянул на Сэймэя.
— Нет ничего постыдного в том, чтобы желать жизни. Всё живое стремится к этому — почему же человек должен быть исключением?
Хиромаса сглотнул.
— Воину не пристало слишком много думать о жизни, — повторил он то, что много раз слышал от отца и старших соратников. — Кто вышел на поле боя, для того смерть — обычное дело, а рана — удача.
— Но ты не на поле боя, — спокойно возразил Сэймэй. — Я уже потратил много времени, чтобы отвести смерть от твоего изголовья, и это ещё не конец моим трудам. Призывая к себе гибель, ты проявляешь неуважение к моим усилиям, Минамото-но Хиромаса.
— Чего ты от меня хочешь? — пробормотал Хиромаса, вконец сбитый с толку. — Я –Минамото, ты — Абэ. Я в твоей власти. Любой другой на твоём месте уже давно снял бы мне голову, да и дело с концом.
По лицу Сэймэя пробежала лёгкая тень.
— Возможно, — проговорил он. — Но я — не любой другой, и я пока ещё не решил, в каком виде мне будет приятнее заполучить твою голову — на плечах или отдельно. Как ты верно заметил, ты в моей власти, и я могу делать с тобой всё, что захочу. Например, сейчас я хочу тебя вылечить.
Он зябко повёл плечами, словно только сейчас заметил, что почти гол. Поднялся с пола, подобрал сложенную в углу стопку одежды и принялся одеваться. Хиромаса с изумлением наблюдал за ним: хоть в доме и топился очаг, но по углам вовсю свистели сквозняки. Ему самому под мехами было зябко и не хотелось даже руку высовывать наружу, а этот Абэ стоял на холоде в одной набедренной повязке — и хоть бы кожа мурашками взялась!
— На тот случай, если тебе интересно, — проговорил Сэймэй, натягивая штаны, — сражение вы проиграли с треском. Ёриёси и кое-кто ещё ушёл, но в целом вашего войска больше не существует. Поэтому если ты рассчитываешь на помощь своих друзей, лучше не строй напрасных надежд.
Это было, пожалуй, больнее, чем тот удар коленом. Комната качалась у Хиромасы перед глазами, пока он пытался осознать услышанное.
Минамото разбиты. Войска больше нет. Помощи ждать неоткуда.
— Как... как ты можешь знать об этом? — выдавил он. — Бой только что закончился. Откуда тебе знать?
Сэймэй хмыкнул и повернулся. Он как раз успел влезть в кафтан и теперь натягивал на плечи белую накидку.
Чёрные узоры на накидке переплетались, как змеиные тела.
Под ошарашенным взглядом Хиромасы он вынул из рукава белую повязку с такими же узорами и надел её на голову, стянув концы на затылке.
— Ты что, только сейчас узнал меня? — Он насмешливо поднял брови. — До чего же вы бестолковые, Гэндзи. Честное слово, ваши кони, и те сообразительнее.
— Зачем? — выдавил Хиромаса.
— Что — зачем?
— Ты меня чуть не убил, — Хиромаса закрыл слипающиеся глаза. Слова рассыпались, как сырой песок. — А теперь лечишь. Зачем?
— Я же сказал, — с лёгким раздражением повторил Сэймэй. — Я так хочу. И всё тут.
Его шаги прошелестели у самой постели. Хиромаса ощутил быстрое, скользящее прикосновение холодных пальцев ко лбу.
— Я отлучусь ненадолго, а ты будь добр, лежи спокойно. Не прибавляй мне работы. Да, — что-то зашуршало у изножья, — вся твоя одежда здесь. Замёрзнешь — надень что-нибудь. И, ради всех богов, не пытайся пока ходить.
Скрипнула дверь, потянуло ледяным воздухом — и всё стихло.
Хиромаса дотянулся до кучки тряпок, сложенных на полу у постели. Действительно, вся его одежда была здесь, от шапки до оленьих наштанников. Доспехи, разумеется, исчезли, как и оружие — но в самом низу стопки он нащупал какой-то твёрдый длинный предмет и торопливо разворошил вещи. Если его беспечный надсмотрщик забыл забрать кинжал...
Это был не кинжал. В складках смятого и перепачканного кровью хитатарэ лежала его флейта Хафутацу, заботливо завёрнутая в шёлковый платок.
***
Остаток дня и следующая ночь наполовину стёрлись из памяти Хиромасы. Боль и слабость приковали его к постели, под вечер к ним добавилась и лихорадка. Дрожа от озноба и задыхаясь от жара, он болтался в каком-то липком тумане между сном и бредом. Он был уверен, что умрёт, но не испытывал страха — только досаду, что вместо славной и быстрой смерти в бою приходится подыхать от ран в плену у дикаря, ничего не смыслящего в лечении.
Дикарь выплывал белым призраком из горячечного марева, подходил к постели, трогал ледяными пальцами шею и грудь Хиромасы, качал головой и снова пропадал. Иногда являлся с водой и заставлял пить, сунув чашку прямо в зубы. Иногда клал ему на лоб что-то холодное, принося острое до дрожи облегчение. Хиромаса перестал сопротивляться и больше не отпихивал назойливые руки, когда они прикасались к его телу или ощупывали рану. Просто устало ждал, пока безмозглому варвару надоест возиться с полутрупом и он предоставит Хиромасу его судьбе.
Но варвар оказался на удивление упрямым, и наутро лихорадка отступила, оставив Хиромасу разбитым и полностью обессиленным. На смену злости пришло отупляющее равнодушие; когда Сэймэй поднял его с постели и наполовину отвёл, наполовину отнёс в отхожее место, Хиромаса даже не почувствовал стыда. Словно он уже отделился от тела, и лишь по недоразумению этот слабый кусок плоти, источник страданий и нечистоты, оставался связан с ним — кандалы для готового освободиться духа.
Под настойчивые понукания Сэймэя он сжевал немного варёного риса, не ощущая вкуса — только тошноту. Потом опять лёг, как ложится загнанная лошадь, которую уже не поднять ни окриками, ни плетью.
Сэймэй постоял над ним, подоткнул по краям меховые одеяла — словно ребёнка укутывал. Потом тихо вышел; снаружи донёсся скрип его шагов по снегу, а немного погодя — удаляющийся стук копыт.
Оставшись в одиночестве, Хиромаса погрузился в странное оцепенение. Это был не сон, не обморок — просто тело казалось таким тяжёлым и ненужным, что хотелось сбросить его, как опостылевший доспех, и уйти, куда глаза глядят. Хотя бы и к Жёлтым источникам. Но ослабевшая больная оболочка всё ещё не спешила отпускать усталый дух на волю, и Хиромаса лежал, закутанный в меха, и наблюдал, как рассыпаются и меркнут угли в очаге. Дневной свет угасал, из-за окна наползала синяя мгла, и холод, пробираясь под шкуры, мало-помалу захватывал в плен ступни и колени. Но не было сил подняться и раздуть очаг.
Сэймэй вернулся, когда за окном окончательно стемнело. Хиромаса услышал его шаги, потом стукнула открытая дверь.
— Хиромаса!
Бодрый голос всколыхнул в душе раздражение. Отзываться не хотелось, но Сэймэй уже влетел в дом, как был — не разувшись, и склонился над ложем.
— Хиромаса, эй! — в голосе уже звучал настоящий испуг. Холодная ладонь, пахнущая снегом и почему-то кровью, торопливо зарылась в меха, скользнула по шее Хиромасы. Тот недовольно дёрнулся, уходя от прикосновения.
— Ты что, заснул? — Сэймэй не скрывал облегчения. — Почему молчал?
— Заснул, — буркнул Хиромаса. Объясняться не хотелось, да и не было смысла.
— Ладно, прости, — Сэймэй отошёл к очагу, подбросил хвороста на едва тлеющие угли, раздул пламя. На дощатом полу расплывались мокрые следы от его замшевых сапог. — Всё равно пришлось бы тебя будить.
Подложив в очаг поленья покрупнее, он взял котелок и вышел наружу. Прошло немного времени, огонь только успел разгореться, поднялся высоко и ровно — и Сэймэй вернулся, на этот раз не забыв разуться.
— Вставай, — позвал он, садясь с котелком у очага. — Ужинать пора.
— Я не хочу есть.
— Это тебе только кажется. Вставай, не упрямься. Я полдня пробегал по горам, чтобы найти для тебя подходящее угощение.
Хиромаса кое-как сполз с ложа, сел у очага напротив Сэймэя. Ему действительно не хотелось есть, только чуть подташнивало и звенело в ушах; зато страшно хотелось пить. Он дотянулся до бадьи с водой и опростал целый ковш, пока Сэймэй хлопотал, расставляя столики. Удивительно, что в этом затерянном в глуши доме, где впору было бы подавать еду на лопухах, имелась и посуда, и утварь для благородной трапезы.
— Ну, вот, — удовлетворённо сказал Сэймэй, протягивая Хиромасе чашку и пару свежеоструганных палочек. — Угощайся.
Хиромаса заглянул в чашку и содрогнулся, едва сдерживая тошноту.
— Что это? — с отвращением выдавил он.
— Оленья печень, — Сэймэй взял вторую чашку, преспокойно подцепил палочками ломтик тёмного мяса, не обращая внимания на капающий красный сок. — То, что нужно тебе для выздоровления.
— Оно... оно что, сырое?
— Конечно. Я слил кровь и промыл мясо в снегу. Попробуй, тебе понравится, — Сэймэй бросил кусочек печени в рот и начал жевать.
Хиромаса сглотнул.
— Во время болезни, — пробормотал он, — надлежит соблюдать пост и воздержание...
— Пост! — фыркнул Сэймэй. — Вам, южанам, солнце мозги иссушило? Во время болезни надо есть хорошую пищу, дающую силы, а не морить себя голодом.
— Всё равно, — упорствовал Хиромаса, — я болен и должен удаляться от скверны.
— В этом мясе нет скверны, — серьёзно сказал Сэймэй. — Бывает, что у оленя скверна внутри, тогда от его печени люди потом болеют. Но этот олень был здоровым. Он быстро бежал и отважно сражался за свою жизнь.
— Но сырое мясо и кровь — нечисты...
— Что плохого может быть в крови, которая питала такое прекрасное и сильное тело? — Сэймэй возвысил голос; в свете очага его лицо казалось медно-смуглым, строгим и властным, и чёрные глаза горели ярче, чем калёные угли. — Чем она отличается от крови, бегущей в наших жилах? Вся кровь — от Солнца, не только твоя, о потомок Озаряющей Небо. Я взял жизнь оленя, чтобы напитать жизнью твоё тело. Прими же его жертву и вкушай с благодарностью.
Хиромаса с трудом отвёл взгляд и сжал палочки в непослушных пальцах.
— Я... отведаю, — неловко проговорил он, цепляя кусочек тонко нарезанной печени. И, зажмурившись, впихнул его в рот.
Больше всего он боялся, что его стошнит здесь же, за столом — худший позор трудно было бы вообразить. Но, вопреки страху, варварская пища оказалась не такой уж отвратительной. Сэймэй не только промыл мясо в снегу, но и сдобрил солью и травами — кроме приятного холодка, Хиромаса ощутил сложный солоновато-пряный вкус, а аромат специй почти заглушил запах крови. Но всё же это было мясо, и когда он, осмелев, начал жевать, его рот наполнился мясным соком — густым, сладким, невероятно вкусным.
Голод, так долго молчавший, вдруг проснулся и напомнил о себе мучительной резью в желудке. Хиромаса торопливо проглотил прожёванное и потянулся за другим куском.
— Так-то лучше, — подбодрил его Сэймэй. — Ешь, сколько сможешь.
Хиромасу уже не нужно было упрашивать — он насилу удерживался, чтобы не хватать еду пальцами, а брать палочками, как положено. Чашка опустела раньше, чем он почувствовал хотя бы тень сытости.
— Это придаст тебе сил. — Не скрывая довольной улыбки, Сэймэй положил ему ещё несколько ломтиков и добавил из другой миски немного нарезанного имбиря. — Как писал Сун Сибаку, правильно подобранная пища излечивает тысячу болезней. Правда, с моим способом он бы не согласился, пожалуй. Видишь ли, сей досточтимый муж полагал, что сырая пища содержит тёмное начало, силу Инь, а потому не подходит для лечения ослабленного человека. Я считаю иначе: кровь есть кровь — и у человека, и у животного она несёт в себе начало света. Ошибочно относить её к субстанциям Инь лишь потому, что она жидкая. Так же и печень — она суть средоточие жизненной силы в живом теле, поэтому для восстановления сил её лучше есть свежей, чем жареной.
— Погоди-ка, — Хиромаса остановился, не донеся зажатый в палочках кусок мяса до рта. — Как ты сказал — Сун Сибаку?
— Великий лекарь из страны Тан. Не знаю, слышал ли ты о нём...
— Я-то знаю, кто такой Сун Сибаку, — не выдержал Хиромаса, — а вот ты откуда знаешь о нём? Да ещё и рассуждаешь так, словно читал его труды?
— Ах, ну конечно, — Сэймэй язвительно улыбнулся. — Откуда нам, немытым дикарям, знать имена великих мудрецов? Мы ведь варвары, эмиси — "отвратительные". Мы живём в лесу и грызём мозговые кости вместо риса. Наши дети бегают вместе с собаками, наши жёны кормят грудью медвежат... и да, чуть не забыл: моя мать вообще была лисицей.
Хиромаса сидел с пылающими ушами. Он уже сам был не рад, что заикнулся об этом.
— Однако ты ошибаешься, — Сэймэй сбавил тон. — Я действительно читал труды Суна Сибаку. И наставления лекаря Када о том, как очищать раны и зашивать их шёлком и жилами. И если бы я не читал эти книги, тебя, возможно, уже не было бы в живых.
— Прости моё невежество, — Хиромаса отставил чашку и склонил голову, уперев руки в колени. — Я никогда не думал, что в этих далёких землях есть люди, не уступающие в учёности жителям столицы.
— Учёных здесь поменьше, чем на юге, это правда, — смягчился Сэймэй. — Но мы не совсем погрязли во тьме варварства. В храме, где я обучался, и в обители Срединного Будды есть немало старинных книг, в том числе по врачеванию. А читать и писать на языке Тан меня научили ещё в семье.
— Не понимаю, — вздохнул Хиромаса.
— Что именно?
— Если в твоей семье читают книги страны Тан, то вы наверняка знакомы и с трудами Конфуция.
— Да, — сухо обронил Сэймэй. — Но к чему ты клонишь?
— Извини за прямоту, но мне кажется непостижимым, что такие образованные люди, как ты и твои родичи, подняли знамя мятежа и взбунтовались против законного государя. — Хиромаса вскинул голову и взглянул на собеседника в упор, пытаясь прочесть в его лице ещё не произнесённый ответ. — Не диво, когда дикие племена восстают против столицы, потому что они от века признают лишь сильную руку. Не диво, когда люди, подобные Масакадо, творят беззаконие ради наживы и жажды власти — потому что они живут войной и ничего другого не знают. Но ты не похож на дикаря или на разбойника. Думаю, что и твои родичи таковы. Почему же вы не видите, что сбились с верного пути?
Сэймэй слушал его молча, но в уголках губ таилась недобрая, полная яда усмешка.
— Я знал, что Гэндзи туго соображают, — проговорил он, когда Хиромаса умолк. — Но не думал, что они такие наивные дураки. Откуда ты взял, что мы взбунтовались против императора?
— Но ведь!..
— Ты не помнишь, с чего началась война? Или, может быть, не знаешь, как Фудзивара-но Нарито пришёл на нашу землю с войском и едва унёс ноги?
— Нарито был законным правителем вашей земли, — хмуро перебил Хиромаса. — То, что вы подняли оружие против назначенного императором наместника — это и есть мятеж.
— Назначенного императором? — фыркнул Сэймэй. — Не смеши. Фудзивара, стоящие у трона, раздают наделы родственникам и союзникам, как им заблагорассудится. Наша земля обширна и богата. Поля здесь плодородны, леса полны дичи, а реки несут золотой песок. Кони из наших табунов обгоняют летящих птиц. Мечи из наших кузниц рубят шёлк и ночной туман. Шесть округов — лакомый кусок, на который Фудзивара давно уже заглядывались. Только пока Абэ отвоёвывали эту землю у диких племён, Фудзивара выжидали, оставив нашим предкам все тяготы и труды покорения нового края. А когда Шесть округов стали процветать — они явились собрать урожай с чужого поля.
— Тогда вам надо было обратиться к самому государю и искать правосудия у него, — упрямо сказал Хиромаса. — Вместо того чтобы разорять эту землю войной, вы могли бы добиться, чтобы её оставили в управлении Абэ.
— Князь Ёритоки пытался решить дело миром. Явился к Минамото-но Ёриёси с повинной, добровольно передал ему управление провинцией — да-да, он согласился признать над собой власть Минамото, чтобы спастись от Фудзивара. Тебе напомнить, чем всё закончилось?
— Садатоо напал на слуг Фудзивара, — пробормотал Хиромаса.
— Ошибаешься. Твоему родичу Ёриёси донесли, что в убийстве слуг Фудзивара-но Токисады виновен Садатоо. Что же, Ёриёси расследовал это дело? Нет! Он приказал привести Садатоо, чтобы признать его виновным. Вот так, без единого свидетельства, по одному доносу Фудзивара — признать виновным. — Сэймэй скривил рот в короткой гримасе. — С тех пор мы больше не верим в правосудие Ямато. И Ёритоки поднял войска не для того, чтобы выйти из-под руки императора, а для того, чтобы спасти сына от расправы без суда. Кто на его месте поступил бы иначе?
Хиромаса не нашёлся с ответом. Вспомнил о Фудзивара-но Цунэкиё, что сражался на стороне Ёритоки — но поостерёгся ставить в пример трусливого и ненадёжного вождя, который с начала войны успел переметнуться к Минамото, а потом обратно к Абэ. Ёритоки нуждался в людях и принял вероломного союзника обратно в свои ряды, но своим поступком Цунэкиё снискал всеобщее презрение.
— Знаешь, чем всё это закончится? — тихо спросил Сэймэй. — Вы снова соберёте войска и двинете их на север. Мы снова встанем на защиту своей земли. Но нас будет всё меньше и меньше... и когда-нибудь вы одержите победу. Абэ падут, Минамото получат чины и награды, но править этой землёй будут не они, а Фудзивара. Те, кто лучше всех умеет чужими руками таскать бататы из огня.
— Если ты так уверен... — Хиромаса осторожно взглянул на него, — тогда зачем вы вообще сражаетесь, если знаете, что поражения не избежать?
— Ради чести, я думаю, — Сэймэй поднял голову, словно мог разглядеть небо сквозь кровлю, облака и бездонный мрак зимней ночи. — Или ради надежды. Или потому, что такова наша судьба. Какой ответ тебе больше нравится?
— Ради чести, — кивнул Хиромаса. — Это мне понятно.
Сэймэй улыбнулся, но ничего больше не сказал.
***
Варварская еда оказала поистине волшебное действие. На следующий день Хиромаса уже не лежал пластом и обнаружил в себе достаточно сил, чтобы самостоятельно ходить по дому и даже поддерживать огонь в очаге, пока Сэймэй отлучился в лес за новым запасом дров.
Через день он впервые вышел из дома — вернее, постоял на пороге, придерживаясь за дверной косяк и оглядывая окрестности. Дом, ставший ему убежищем, стоял посередине довольно просторного двора, обнесённого высоким забором с заточенными кольями. Ворота были заложены засовом, сад заменяли несколько сосен, оставленных расти внутри ограды. Насколько можно было разглядеть, дом находился в какой-то лощине между двумя отрогами горы — за оградой прямо вверх убегали лесистые склоны.
На вопрос, что это за место, Сэймэй ничего не ответил. Чуть позже он снова отправился в лес — а под вечер Хиромасу ждало новое потрясение.
— Я уезжаю, — с порога объявил Сэймэй, едва отряхнув снег с сапог. — Некоторое время мне удавалось объяснять своё отсутствие, но я не могу вечно водить родню за нос. Если я пропаду надолго, они насторожатся и начнут меня искать.
Хиромаса понимающе кивнул. Он и раньше догадывался, что Сэймэй сохранил ему жизнь отнюдь не с согласия родственников, а вовсе даже без их ведома. И, конечно, этот обман, как и любой другой, не мог длиться слишком долго.
— Я могу позаботиться о себе, — заверил он Сэймэя. — Я уже достаточно набрался сил.
Тот бросил на него косой острый взгляд.
— Действительно, ты очень быстро восстанавливаешь силы. Слишком быстро, чтобы я мог быть спокоен за тебя. Мне придётся отсутствовать по два-три дня. За это время ты, чего доброго, сочтёшь себя вполне здоровым, чтобы покинуть меня, не попрощавшись.
Хиромаса отчаянно покраснел. Именно на это он и рассчитывал, по правде говоря.
— Поэтому, чтобы тебе не приходили в голову всякие глупости, — продолжал Сэймэй, словно не заметив его смущения, — я оставлю тебя в хороших руках. Вернее, в хороших лапах.
Он приоткрыл дверь и свистнул.
В дверь просунулась белая морда с любопытно поднятыми стоячими ушами. Чёрный нос задрожал, впитывая запахи жилья и людей. Потом из темноты поочерёдно появились мощные плечи, передние и задние лапы, весело вздёрнутый пушистый хвост.
Большущий белый пёс с рыжей спиной постоял у порога, привыкая к теплу, и неторопливо, с достоинством, подошёл к Сэймэю.
— Дай ему руку, — попросил тот.
Хиромаса протянул руку — на всякий случай левую. Пёс осторожно коснулся носом его ладони и отодвинулся.
— Он будет тебя охранять, — сказал Сэймэй. — Защищать при необходимости. Ну, и стеречь, само собой. Имей в виду, — спокойно добавил он, — Киба может остановить медведя, если потребуется. Так что не испытывай его терпение.
Пёс приоткрыл пасть в длинном зевке, сверкнул клыками и с лязгом сомкнул челюсти. Неторопливо, с хозяйским видом подошёл к постели, обнюхал меха, чихнул и лёг на пол в изножье.
— Я приеду, когда смогу, — Сэймэй подбросил поленьев в огонь, пошевелил их палкой, сгребая в кучу. — Дров и риса довольно, дичи вам хватит ещё на несколько дней на двоих. Медведи и волки сюда не заходят, я их давно отвадил.
— А твои родичи? — Хиромаса постарался, чтобы это прозвучало как можно более равнодушно. — Не боишься, что кто-то из них заглянет сюда и заберёт твой трофей без спроса?
— Об этом убежище не знает никто, даже моя семья. — Сэймэй выпрямился, отряхивая руки, и глянул на него через плечо, насмешливо и ободряюще. — Не бойся. Чужие сюда не придут.
— А если ты не вернёшься? Твой пёс хотя бы отпустит меня на охоту?
— Разумеется, нет. — Сэймэй повернулся к нему и взглянул в упор, глаза в глаза. — Я рад, что ты так быстро поправляешься. Рад, что ты быстро освоился в моём доме. Но, Хиромаса, ради собственного блага не забывай, что ты мой пленник, а не гость. Это значит, что тебе придётся мириться с некоторыми вещами, которых я никогда не допустил бы по отношению к гостю.
— Я помню, — глухо проговорил Хиромаса. — Ты лечишь меня и позволяешь мне жить из прихоти. Полагаю, я должен быть благодарен уже и за это.
— Если бы ты знал, чего мне стоило сохранить в тайне эту маленькую прихоть, — Сэймэй не отпускал его взгляда, — ты был бы мне благодарен без всякого ехидства. Но это ведь и впрямь моя прихоть, поэтому оставь свою благодарность при себе, а вместо этого лучше слушайся моих советов. Сейчас для тебя это единственный способ пожить ещё какое-то время.
Хиромаса опять почувствовал, что щёки начинают гореть. Он уже сбился со счёта, сколько раз за это время он чувствовал себя непроходимым дураком.
— Я действительно благодарен, — сбивчиво проговорил он. — Но мне всё-таки хотелось бы знать, что ждёт меня в конце? Спасение это или отсрочка перед смертью?
Сэймэй улыбнулся, и одной его улыбки было достаточно, чтобы уничтожить повисшее между ними напряжение.
— Вся наша жизнь — отсрочка перед смертью, — почти пропел он. — И очень немногие из живущих знают, что ждёт их в конце. Но разве это причина, чтобы не жить?
***
В двенадцатом месяце того же года в докладе о положении дел в провинции Ёриёси писал:
«Ответа на нижайше высказанную просьбу о сборе войск и провианта со всех провинций не воспоследовало. Население этой земли перебежало в соседние, и от воинской повинности уклоняется. В ответ на распоряжение о поимке и возвращении беглецов правитель земли Дэва, Минамото-но асон Канэнага, так ничего и не предпринял. Если мы не получим подтверждения этого указа, то усмирить мятежников не представится возможным.»
"Сказание о земле Муцу"
Дни потекли однообразной чередой, похожие друг на друга, как бобы из одного стручка. О том, что время не стоит на месте, напоминал лишь тонкий серпик луны, истаявший и выросший заново в прозрачном от мороза небе. И — багровый рубец, стянувший кожу в том месте, где была рана. И ещё приезды Сэймэя.
Он появлялся раз в два-три дня, всегда с той тропы, что уходила от ворот на север, вверх по склону лощины. Куда вела эта тропа дальше, Хиромаса не знал — бдительный Киба выпускал его погулять во двор, но ни разу не позволил ему ступить за черту ограды.
Сэймэй привозил припасы — высушенный варёный рис, бобы, свежую дичь или рыбу и даже сакэ. Сложив снедь в доме, он снова отправлялся в лес и возвращался с несколькими вязанками дров. Хиромаса уже достаточно окреп, чтобы самостоятельно ходить за дровами и за дичью — но кто доверит пленнику лук или топор? Самым опасным предметом в доме был кухонный нож — и тот был всего с ладонь длиной; Хиромаса немало помучился, разделывая этой зубочисткой жёсткую оленину.
К тому времени, как Сэймэй приносил дрова, Хиромаса успевал вскипятить воду. Сушёный рис быстро размокал в кипятке, превращаясь в простое, но сытное варево. Тонко нарезанное мясо запекалось ещё быстрее, хотя в первые недели Сэймэй упорно потчевал Хиромасу сырым. Впрочем, жаловаться было грешно: варварская еда и впрямь быстро восстанавливала силы, и Хиромаса ещё с того памятного первого раза запретил себе переживать по поводу скверны и невозможности очищения.
После трапезы Сэймэй осматривал его рану, проверял, чисто ли она заживает. Когда края разреза срослись в шершавый красный рубец, он вытащил из кожи шёлковые нитки и больше не стал накладывать повязку, наказав вместо этого умащать рану какой-то вонючей чёрной мазью.
Хиромаса послушно выполнял всё, что было велено. Он не мог дождаться того дня, когда рубец заживёт окончательно и перестанет мешать двигать плечом и поднимать руки.
Сэймэй об этом не знал — ну, если только в число его колдовских умений не входило знание собачьего языка. Потому что только Киба видел, как Хиромаса упражняется во дворе с палкой вместо меча. Поначалу его едва хватало на десяток взмахов, да и те не в полную силу, чтобы рана не открылась от напряжения. После того, как Сэймэй снял швы и повязку, дело пошло на лад. Конечно, упражнения всё ещё причиняли боль, но эту боль можно было и потерпеть — а мышцы крепли с каждым днём, хотя Хиромаса понимал, что ещё далеко не восстановил прежние силы.
Киба поначалу скалил зубы, завидев его с палкой в руках. Потом понял, что человек не собирается нападать и вообще занят своими странными делами — и перестал настораживаться. Теперь он обычно лежал в сторонке, лениво наблюдая, как Хиромаса до изнеможения машет своим деревянным оружием или стучит по стволу растущей во дворе сосны. Однако стоило подопечному приблизиться к ограде или к воротам, как пёс тут же оказывался рядом и молча, без брехни, показывал клыки, напоминая, кто здесь главный.
Хиромаса не простился с мыслью вырваться на свободу, но понимал, что сейчас он с Кибой не справится. По крайней мере, не справится без новых ран и увечий — а раненому в здешних горах не выжить, это было понятно сразу. Чтобы одолеть пса и притом уйти отсюда на своих ногах, требовалось оружие получше, чем палка и хлипкий ножичек. А оружие можно было добыть только у Сэймэя.
Дело было за малым: как можно быстрее набраться сил, вернуть себе прежнее умение и победить Сэймэя. Вызвать его на бой, конечно, не получится — во-первых, Киба обязательно вмешается в схватку; во-вторых, меча пленнику никто не даст, а выходить с палкой на вооружённого врага — сущее самоубийство. Так что придётся пойти на хитрость и подстеречь Сэймэя в тот момент, когда он садится за стол, оставив Кибу во дворе.
Убивать его не хотелось — как-никак, Хиромаса был ему обязан. Но палка тем и хороша, что ею можно остановить противника, не лишая его жизни. Хиромаса уже знал, как и в какой момент можно подловить своего тюремщика, надо было только подождать, пока заживёт рана, а в руки вернётся сила.
И он ждал.
***
К середине двенадцатого месяца в горы пришла неожиданная оттепель. Солнце начало припекать почти по-весеннему, с крыши закапала талая вода.
В один из таких ясных дней Хиромаса вышел во двор просто так — не упражняться, а полюбоваться голубым небом, таким редким в эту хмурую зиму. И — впервые за долгое время достал Хафутацу из чехла.
Его давно не тянуло играть. Сначала было не до музыки, пока боролся за жизнь, потом все силы уходили на то, чтобы укреплять тело, преодолевая боль, не давая себе поблажек. И вот только теперь появилось желание не просто размять пальцы — поговорить с этим чистым небом, с величественными горами и с тёплым, неожиданно ласковым ветром.
Он устроился на крыльце, где солнце так славно прогрело доски, и обнял флейту огрубевшими за время разлуки пальцами. Сначала по-ученически прохромал по ладам —долгий перерыв не пошёл на пользу мастерству. Спотыкался, ошибался, выплетал мелодию из обрывков — а потом сам не заметил, как втянулся.
Здесь не было слушателей, кроме Кибы, и некого было поражать сложностью исполнения. Хиромаса играл не на мастерство — для души. Чтобы она, эта его душа, вспомнила о том, что впереди — весна, и уж как-нибудь до этой весны надо дожить, не раскисать, не опускать руки. Потому что жизнь только начинается, и глупо оставлять её на середине, не увидев, может быть, самого интересного...
Мелодия закончилась так же, как началась — сама, без напряжения. Хиромаса перевёл дыхание, опустил флейту — и увидел Сэймэя.
Северянин стоял у ворот, держа коня под уздцы. Значит, услышал музыку — и остановился, не стал мешать. Хиромасе отчего-то стало неловко, он попытался убрать флейту в чехол, но скользкая ткань все выползала из-под пальцев.
Сэймэй привязал повод коня к ограде, подошёл к крыльцу. Сбросил свою белую накидку в узорах и набросил её на плечи Хиромасы.
— Простынешь, — коротко сказал он. Хиромаса, чуть не сгорая от неловкости, только сейчас заметил, что оставил ватный хитатарэ в доме.
— Сегодня, вроде, потеплее стало, — пробормотал он, словно оправдываясь. Сэймэй покачал головой:
— Это ты привыкаешь к холоду. Пожил бы в наших краях несколько лет — стал бы настоящим северянином. Но пока тебе не стоит подолгу находиться на ветру.
И сел рядом на ступеньки крыльца. Запросто так сел, по-мальчишески. Запрокинул голову, устремив взгляд вверх, где заснеженные верхушки сосен спорили белизной с облаками в солнечных лучах.
— Помнишь, — тихо проговорил он, — ты спрашивал, почему я сохранил тебе жизнь?
— Да, — выдохнул Хиромаса.
— Вот тебе настоящий ответ. — Сэймэй чуть скосил глаза на Хафутацу и снова обратил взгляд к небу. — Мы шли за вашим войском три дня. Я был среди лазутчиков и подбирался близко, чтобы сосчитать людей и коней. В ночь перед боем я притаился в снегу возле вашего стана и услышал звуки флейты. Я лежал и слушал; снег подо мной растаял, одежда намокла, а я всё не мог уйти. У нас тоже есть хорошие музыканты, но нет такого, что сумел бы перевернуть душу одной песней.
Хиромаса молчал, надеясь, что краска на его щеках не слишком бросается в глаза.
— А следующей ночью, возвращаясь к своим после погони, я нашёл тебя в лесу. Тебя наполовину замело снегом, но ты ещё дышал. Доспех ослабил мой удар, а кровь быстро свернулась на холоде. Я хотел забрать твою голову. Вытащил тебя из сугроба, занёс меч — и увидел рядом с тобой в снегу эту флейту.
— Как ты узнал, что это был я? — так же тихо спросил Хиромаса.
— Кто ещё взял бы флейту с собой на войну? Кто, презрев тяготы и опасности, заиграл бы у походного костра? Только тот, кто не мыслит жизни без музыки. Едва ли во всём войске Минамото есть второй такой человек.
— Значит, мне повезло, — Хиромаса не удержался от смешка, слишком горького, чтобы можно было выдать его за шутку. — Если бы ты сначала снял мне голову, а потом нашёл флейту — неловко бы получилось.
— Это не везение, — без улыбки возразил Сэймэй. — Боги пожелали сохранить тебе жизнь и показали мне твою флейту, чтобы в моём сердце проснулось сострадание. Это воля богов — ты должен жить.
Хиромаса отвернулся.
— Отпусти меня.
Он выговорил это с трудом — никогда в жизни не думал, что придётся просить врага о милости. Но так, не глядя в лицо, просить было немного легче.
— Если не собираешься убивать — отпусти. Зачем я тебе? Я не раб и не скот, чтобы сидеть взаперти. И, — он стиснул пальцы на гладком дереве флейты, — не певчая птица, чтобы чирикать в клетке. Твоя "маленькая прихоть" слишком затянулась, Сэймэй. Ты говорил, что тебе трудно сохранять моё убежище в тайне — так позволь мне уйти, чтобы не обременять тебя заботами. Я...
— Довольно.
Сэймэй встал. Дружелюбие и тепло, которые он излучал минуту назад, скатились с него, словно капли воды с жёсткого гусиного пера.
— Хватит, Хиромаса. Я понял тебя — и я отвечаю: нет. Пока твоя рана не затянулась окончательно, мы не будем это обсуждать.
— Так ты всё-таки обо мне заботишься? — бросил Хиромаса. — Или о своей игрушке?
— Мы оба — игрушки, если уж на то пошло, — Сэймэй потёр ладонью висок, словно у него заболела голова. — Игрушки в руках сил, о которых мы имеем очень слабое представление.
— Что? — опешил Хиромаса. — Ты о чём?
— О судьбе. О карме, как её называют служители Закона. О воле богов, которая управляет нашими жизнями. Называй как хочешь, суть одна. По воле богов я сохранил твою жизнь, по их знаку. Должен быть другой знак — тот, что подскажет мне, должен ли я отпустить тебя на волю.
— И сколько мне ждать этого знака? — в сердцах бросил Хиромаса. — Пока от старости не умру? А, Сэймэй?
Тот молчал.
— Сэймэй!
Молчание снова было ответом. Сэймэй смотрел не на Хиромасу, а куда-то сквозь него, и неподвижные глаза словно затягивало прозрачной плёнкой. Так замерзает полынья в сильный мороз: тонкая, почти невидимая ледяная корочка, а под ней — чёрная, стылая глубина...
Хиромаса подскочил к нему — и вовремя: Сэймэй застыл, запрокинул голову, словно пытаясь разглядеть что-то в вечернем небе — а потом деревянно, не сгибая колен, повалился назад и, если бы Хиромаса не успел поймать его — как раз приложился бы головой о дверной косяк.
Тело колдуна было жёстким, негнущимся, как у закоченевшего мертвеца. Глаза закатились, в уголках губ блестела слюна. Киба жалобно заскулил, подполз к хозяину на брюхе, ткнулся носом в застывшую руку. Хиромаса в замешательстве прижался ухом к груди Сэймэя — и холодная дрожь скрутила внутренности: дыхания не было слышно, и стук сердца он тоже не мог уловить, как ни силился.
— Сэймэй, — нетвёрдым голосом позвал он. — Ты чего это вздумал? — И, уже срываясь в панику, затряс его за плечи: — Эй, Сэймэй! Очнись, тебе говорят!
Сэймэй коротко вздохнул — и заметался, как рыба на сковороде, содрогаясь всем телом от шеи до пят. Повязка слетела у него с головы, в волосы набился снег, дыхание с натугой рвалось из груди.
Хиромаса не придумал ничего лучше, чем навалиться на него, прижимая к земле своим весом. Но и этого оказалось недостаточно — варвар, в чьё тело словно вселился добрый десяток демонов, хрипел и вырывался с невероятной силой. Тогда Хиромаса сел на него, оседлав дёргающиеся бёдра, а руками упёрся ему в плечи, не давая выгибать спину. Со стороны это, должно быть, выглядело непристойно, но кого сейчас могли заботить вопросы приличий? И он продолжал удерживать бьющееся в снегу тело, пока судороги не пошли на убыль.
Когда Сэймэй затих под ним, Хиромаса для верности подождал ещё немного, потом осторожно привстал и отодвинулся. И неожиданно обнаружил, что смотрит прямо в настороженные карие глаза Кибы.
Пёс подошёл к неподвижному господину, лёг рядом. Тихо поскуливая, стал вылизывать ему руку. А ведь он не бросился, запоздало сообразил Хиромаса. Видел, что чужак как будто бы борется с его хозяином — но не напал, не попытался помешать. Неужели сам догадался, что Хиромаса хочет только помочь? Или уже не в первый раз наблюдает приступ этой странной болезни?
Размер: миди
Пейринг/Персонажи: Абэ-но Сэймэй, Минамото-но Хиромаса, ОМП, ОЖП
Категория: джен, гет
Жанр: мистика, детектив
Рейтинг: PG-13
Предупреждение: спойлерупоминание изнасилования
От автора: Начиналось как мистика про зачарованную флейту, в процессе приобрело черты "тёмной" версии Отикубо. В итоге получилась вроде как детективная зарисовка о милых нравах эпохи Хэйан.

— Сэймэй! Подожди, не уезжай!
Конечно, не пристало придворному четвёртого ранга кричать во всю глотку, словно крестьянину на покосе. А уж скакать во весь опор, погоняя коня и самому держа поводья, было и вовсе непозволительным мужланством. Но сейчас Хиромасу меньше всего заботило, что могут подумать случайные прохожие о его манерах. Да и откуда бы им взяться, случайным прохожим, на рассвете после ночи старшего металла и обезьяны, когда все почтенные жители столичных усадеб только ложатся вздремнуть после бдения? Одни слуги, разносчики да бродячие монахи выходят на улицы в этот час — но им-то и вовсе не по чину обсуждать поведение его светлости Минамото-но Хиромасы, внука и племянника императоров.
Сэймэй меж тем услышал и стук копыт, и призывный крик — и остановился у повозки с опущенной лесенкой, не входя внутрь.
— Что стряслось? — спросил он, как только друг осадил коня и соскочил на землю. — Пожаров в этом году не должно быть, землетрясений я тоже не предсказывал. Так в чём дело?
— Беда! — выдохнул Хиромаса. — Ты срочно нужен! Едем скорее!
— Какое неудачное совпадение, — нахмурился Сэймэй. — Именно сейчас меня зовут в монастырь Энрякудзи, и я уже обещал незамедлительно прибыть туда. Им я тоже нужен очень срочно.
— Но, Сэймэй! — Хиромаса в волнении ухватил друга за рукав. — Это дело чрезвычайной важности! Речь идёт о жизни и рассудке человека!
— Дело, призывающее меня в Энрякудзи, тоже касается жизни и рассудка человека, — Сэймэй прикусил губу. — Расскажи мне, что у тебя случилось. Я не могу выбирать, не зная всех обстоятельств.
Хиромаса притопнул ногой от досады и нетерпения, но всё же начал:
— Этой ночью я был на пиру у советника Фудзивара-но Такадзуми. Чтобы не уснуть, решено было развлечься музыкой, и для этого советник пригласил на пир прославленного мастера флейт, Ивами из Кии.
— Слышал о нём, — кивнул Сэймэй. — Говорят, он не только мастерит инструменты, но и играет недурно.
— Он превосходный музыкант, это я тебе говорю! Так вот, Ивами представил на суд гостей свою новую флейту, "Вечерний вздох", и предложил оценить её звучание, исполнив песню "Такасаго". Едва он заиграл, как мне послышалось нечто странное — словно бы женский стон где-то рядом. Но остальные гости ничего не замечали.
— Так...
— И вот он доиграл до того места, где "Слишком поспешило сердце мое..." — и вдруг за ширмами, где сидели женщины, поднялся шум. Младшая жена советника упала в судорогах, опрокинула ширму, стала метаться и кричать: "Не играй! Не играй!" Все, конечно, переполошились, забегали, а она закатила глаза и что-то уже совсем непонятное бормочет, словно ума лишилась. Советник Такадзуми, ты знаешь, на расправу скор — тут же приказал схватить мастера и посадить под замок. Он почему-то уверен, что это игра на флейте свела его жену с ума, а он уж если что вобьёт себе в голову... — Хиромаса безнадёжно тряхнул головой. — Выручай, Сэймэй! Кто, если не ты, может оправдать Ивами? Кому ещё советник поверит?
Сэймэй оборвал его резким взмахом руки. Шагнул к повозке, откинул занавесь.
— Садись. Коня оставь, о нём позаботятся.
— Едем в дом Такадзуми? — радостно уточнил Хиромаса, забираясь внутрь.
— Нет. В Энрякудзи. — Сэймэй сел рядом, изящно подобрал полы одежды и постучал веером по окошку, приказывая трогать.
— Но постой! Почему?
Снаружи протяжно замычал бык, повозка качнулась и поехала. Хиромаса не мог припомнить, видел ли он рядом хоть одного слугу — а, впрочем, в обществе Сэймэя не стоило удивляться ни воротам, открывающимся без привратника, ни повозке, ездящей без погонщика.
— Меня позвали изгнать демона, который вселился в молодого послушника, — пояснил Сэймэй. — Сейчас этого послушника зовут Дзютоку, а в миру он носил имя Фудзивара-но Суэдзуми.
— Неужели родственник советника?
— Племянник, если быть точным. И, заметь, демон напал на него в ту же ночь, когда жену советника постигло безумие.
— Думаешь, здесь есть связь?
— Уверен. Рассказывай дальше, Хиромаса. Рассказывай всё, что тебе известно о Такадзуми и его семье.
— Ну... — Хиромаса задумался, перебирая в памяти слухи и сплетни последних лет. — Такадзуми приходится родственником бывшему Левому министру Накахира, так что карьера его продвигалась быстро с самого начала. Если бы не кончина Накахиры, он мог бы дослужиться до звания тюнагона. Но и без этого получить пост санги в столь молодые годы — великая удача.
— Это мне известно. Дальше?
— В первый раз он женился в девятнадцать лет... кажется, на дочери Минамото-но Кинтада. Сейчас у них трое детей, старший уже надел шапку и служит в архивном ведомстве. Три года назад Такадзуми решил взять вторую жену и посватался к старшей дочери какого-то чиновника... — Хиромаса нахмурился, вспоминая. — Вот, точно! Томо-но Ёсиката, помощник левого цензора. Все говорили, что это неравный брак, ведь Ёсиката имел всего лишь пятый ранг, а Такадзуми уже достиг четвёртого и мог выбрать себе невесту из более знатной семьи, даже даму из свиты императрицы. Но, как говорится, сердцу не прикажешь...
— Ясно. Значит, он женился по любви?
Хиромаса вздохнул.
— И да, и нет. Незадолго до свадьбы невеста отправилась на богомолье, да в пути вдруг заболела и умерла. Но её младшая сестра оказалась очень похожа на покойную, и Такадзуми взял её вместо старшей. И, представь себе, всё сложилось хорошо — живут душа в душу, с госпожой северных покоев прекрасно ладят, и младшему сыну уже полтора года исполнилось. Для тестя Такадзуми выхлопотал повышение до старшего пятого ранга, а в этом году — назначение на должность старшего левого цензора. Благополучная семья, с какой стороны ни погляди.
— И под крепкой корой древесина бывает изъедена гнилью, — задумчиво промолвил Сэймэй. — Что скажешь о Суэдзуми?
— Ничего, — Хиромаса пожал плечами. — Слышал его имя пару раз, в основном из сплетен. Его называли красивым, но легкомысленным юношей, даже пеняли на его беспутство. Но я не знал, что он состоит в столь близком родстве с Такадзуми. И тем более представить не мог, что он постригся в монахи!
— Пока ещё только принял послушание, — поправил его Сэймэй. — Но, несомненно, пострижётся, если только переживёт сегодняшний день. Гонец из монастыря говорил, что он совсем плох.
Хиромаса взглянул на друга с тревогой.
— Что же это за напасть, Сэймэй? И впрямь похоже на колдовство... но я не верю, что мастер Ивами замешан в этом. Не может человек, наделённый таким несравненным талантом, творить злодеяния!
— Всему своё время, — отозвался колдун. — Наберись терпения, скоро мы всё узнаем.
***
Войдя вслед за Сэймэем в келью одержимого, Хиромаса ощутил укол совести за то, что задерживал друга перед отъездом. Как бы ни было прискорбно состояние жены советника, молодой послушник явно куда больше неё нуждался в помощи, и промедление действительно могло оказаться для него роковым.
Распростёртого на ложе юношу за ноги и за плечи прижимали к полу двое крепких монахов — иначе нельзя было удержать извивающееся в корчах тело. Руки, оставшиеся свободными, то сжимались в кулаки, то беспомощно скребли пол обломанными в кровь ногтями. Только запрокинутая голова оставалась неподвижной, словно прилипнув затылком к изголовью-макура, все жилы на вытянутой шее напряглись, кадык вздрагивал от редких судорожных вдохов, больше похожих на всхлипы. Искажённое лицо было тёмным от прилива крови, веки набрякли, и белки закатившихся глаз жутко поблёскивали из-под мокрых ресниц.
Жестов попросив одного из монахов посторониться, Сэймэй присел в головах у Дзютоку и тронул его лоснящийся от пота лоб.
— Давно ли он в таком состоянии? — спросил он, вглядываясь в полузакрытые глаза несчастного.
— Началось всё около середины стражи Тигра, — с готовностью ответил монах, проводивший гостей сюда. — Я молился в соседней келье, когда услышал крик, а потом хрип. Вошёл к Дзютоку и увидел его вот таким. Сначала я подумал, что беда приключилась с ним оттого, что он заснул в такую ночь, и хотел уже прочесть над ним молитву, но потом на всякий случай позвал настоятеля. Дзютоку не становилось ни лучше, ни хуже, он всё метался и стонал, а когда мы хотели поднять его с ложа — так страшно захрипел, словно ему петлю на шею набросили. Мы решили не трогать его, только придержать, чтобы не покалечился. Сам настоятель читал над ним сутры, но это не помогло, и тогда он велел послать за вами, почтенный Сэймэй.
Слушая его, Сэймэй не терял времени даром — осторожно ощупывал шею и грудь юноши, оттягивал ему веки, чтобы заглянуть в расширенные зрачки, задерживал ладонь над губами, ловя неровный ритм дыхания. Наконец, удовлетворённо кивнув сам себе, он распорядился:
— Принесите письменный прибор, курильницу с углями, ковш воды и благовония нэрико для возжигания. Да, и закройте двери и ставни потуже, чтобы не было сквозняков.
Приказ был исполнен незамедлительно. Мальчик-служка принёс принадлежности для письма, воду, серебряную курильницу и ларчик с благовониями, ставни мигом закрыли и заткнули щели тряпками.
Сэймэй обмакнул кисть в тушечницу, вынул из-за пазухи лист бумаги, оторвал узкую полоску и, начертив на ней несколько знаков, обернул этой полоской шею Дзютоку. Потом положил в курильницу пять шариков благовоний, раскрыл веер и принялся нашёптывать заклинания, веером разгоняя ароматный дым по келье.
Очень скоро помещение сверху донизу наполнилось сизым туманом, и огоньки масляных лампадок потускнели в этом мареве. Стало жарко и душно, лица монахов, держащих Дзютоку, заблестели мелким бисером испарины. Хиромаса и сам дышал с трудом — напитанный курениями воздух не лез в горло, от дыма пощипывало глаза. Вокруг ложа послушника дым уже плавал густым синеватым облаком, завиваясь клубами над его лицом.
Не прерывая заклинания, Сэймэй неторопливым шагом трижды обошёл вокруг ложа и снова сел в головах. Все затаили дыхание, только слабые стоны Дзютоку нарушали тишину. И вдруг — Хиромаса аж заморгал от неожиданности — в дыму начали проявляться какие-то неясные очертания, словно бы силуэт... человеческой руки?
Да, это была рука. Бесплотная, будто сотканная из воздуха — но дым обволакивал её, делая видимой. Рука несомненно женская, прекрасной формы, с узким запястьем и нежными тонкими пальцами. Она выступала из изголовья справа и обхватывала шею Дзютоку, а согнутые пальчики, словно когти, впивались в его кожу.
Сэймэй заговорил громче, перекрывая испуганные возгласы монахов. Рука беспокойно шевельнулась, крепче сжимая горло послушника; юноша забился и захрипел, будто в предсмертной муке — но тут бумажная лента с заклинанием вдруг отлепилась от его шеи, поднялась в воздух и обвилась вокруг призрачной руки, тугой петлёй стянув запястье. Пальцы дёрнулись и неохотно разжались. Дзютоку тут же обмяк и перестал вырываться.
— Тащите его с ложа! — резко приказал Сэймэй. — Быстрее!
Монахи ухватили послушника за руки, за ноги и в мгновение ока оттащили его на пол, подальше от постели. Рука на изголовье заметалась, зашарила вокруг, ища исчезнувшую жертву.
Сэймэй спокойно взял с пола светильник и поджёг кончик бумажной ленты. Огонь быстро пробежал по ней, охватив руку-привидение горящим кольцом. Раздался громкий треск, словно горела сырая кора, дым повалил сильнее, и к запаху благовоний на миг примешался омерзительный запах тлена. А потом догорающая бумажка упала на ложе, как если бы её больше ничто не удерживало, и Сэймэй плеснул на неё водой, гася пламя.
— Можно открыть двери, — сказал он. — А этого беднягу лучше вынести в сад, пусть отдышится.
Тотчас двери и ставни были распахнуты настежь, и свежий воздух ворвался потоком в задымлённую комнату. Дзютоку застонал и пошевелился. Глаза его всё ещё были закрыты, и на горле виднелись царапины, но с лица уже сходила жуткая синева, и дыхание стало ровным. Монахи подняли его и вынесли из кельи.
Сэймэй без малейшего трепета взял в руки макура и осмотрел его. Чуть заметная улыбка заиграла на его губах — как всегда, когда он находил разгадку очередной тайны.
— Дай-ка мне нож, Хиромаса, — попросил он, ощупывая изголовье одной рукой. Хиромаса с готовностью вытащил кинжал и протянул ему. Сэймэй распорол плотный валик по всей длине, запустил руку внутрь и вытащил маленький листок бумаги.
— Вот что случается с теми, кто стремится к Будде, но не находит сил отринуть земные соблазны, — задумчиво проговорил он. — Ты только взгляни!
Хиромаса взял у него листок. На голубой китайской бумаге, немного помятой, изящным почерком были начертаны такие слова:
Лишь изголовью
Тайну доверю твою,
Бедное сердце.
А рядом тонкими "женскими знаками" было дописано:
На изголовье моём
Тайну разделим вдвоём.
— Что скажешь об этом? — Сэймэй забрал у него листок.
— Это любовное письмо, — краснея, проговорил Хиромаса. — Кавалер пишет начало песни, дама заканчивает. Я думаю, это писала женщина не очень высокого положения.
— Почему же?
— Слишком откровенный ответ, — Хиромаса смутился ещё сильнее. — Не могу представить, чтобы дама из высшего круга послала ухажёру столь неосторожные стихи. Тем более если ухажёр — такой известный ветреник, как Фудзивара-но Суэдзуми. Это ведь его письмо, не так ли?
— Наверняка, — кивнул Сэймэй. — Но к чему теряться в догадках? Скоро Дзютоку придёт в себя — вот у него и спросим.
***
Действительно, Дзютоку вскоре отдышался. Хотя он ещё лежал пластом и разговаривать мог только шёпотом, но было видно, что силы быстро возвращаются к нему. Увидев Сэймэя, он первым делом рассыпался в благодарностях, но стоило колдуну вытащить из рукава листочек с письмом, как лицо Дзютоку, только-только обретшее здоровый цвет, покрылось смертельной бледностью.
— О, верно говорят, — горестно прошептал он, — что всякий грех рано или поздно становится явным. Моё прошлое легкомыслие навлекло на меня этот позор!
— Оно навлекло на вас ещё и опасность, — сказал Сэймэй. — Из-за этого письма вы чуть не расстались с жизнью. Расскажите мне всё без утайки, если не хотите, чтобы это несчастье повторилось.
Голос его был суров, глаза смотрели холодно и властно — под этим взглядом Дзютоку совсем поник и, казалось, готов был расплакаться. Хиромаса отвернулся, пряча улыбку. Он-то хорошо знал своего друга и понимал, что Сэймэй нарочно напускает страху, чтобы послушнику не пришло в голову слукавить или отмолчаться, какой бы неприглядной ни оказалась правда.
Дзютоку тяжело вздохнул, но перечить грозному оммёдзи не посмел и тихим, сиплым голосом начал свой рассказ:
— Как вам должно быть известно, до недавних пор я носил имя Фудзивара-но Суэдзуми, служил при дворе в чине куродо и не помышлял о стезе Закона, а проводил дни в легкомысленных увеселениях. Моя красота привлекала ко мне сердца всех женщин двора.
Он улыбнулся с некоторым самодовольством, и выглядело это странно, потому что сейчас его лицо, изнурённое постом и осунувшееся после пережитого потрясения, никак не блистало прелестью.
— Надобно ещё сказать, что, рано лишившись родителей, я жил в доме своего дяди, ныне господина советника третьего ранга Такадзуми. Дядюшка заботился обо мне из родственных чувств и из почтения к усопшему брату, но большой приязни между нами не было, хотя его попечением получил я и чин, и представление ко двору. Нередко он попрекал меня за сластолюбие и за дурной пример, который я подавал его сыновьям; я же относился к его упрёкам без внимания и порой нарочно поступал ему назло. Увы, моё безрассудство обошлось мне слишком дорого!
Три года назад дядюшка задумал взять вторую жену. Многие вельможи были бы рады заполучить его в зятья, но ему отчего-то приглянулась старшая дочь Томо-но Ёсиката, никому не известная особа, даже не допущенная ко двору. Само собой, это возбудило моё любопытство. Зная моего дядюшку, можно было смело сказать, что эта девица должна быть сокровищем добродетели, красоты и изящества, чтобы при такой разнице в положении он соизволил обратить на неё внимание. Чем больше я размышлял об этом, тем больше мне хотелось хоть краешком глаза взглянуть на эту таинственную прелестницу.
Он умолк и закашлялся — то ли от боли в горле, то ли от смущения. Сэймэй нетерпеливо взмахнул рукой.
— Подробности можете опустить. Одним словом, вы увлеклись невестой дяди и завязали с ней переписку, так?
— Не совсем, — признался Дзютоку. — Мицуко оказалась неприступной, как гора Хорай, что скрывается в тумане от простых смертных. Я осыпал её письмами, но она упорно отказывалась отвечать. Я сложил бессчётное количество стихов, посылал ей подарки, я даже перестал посещать других дам, чтобы показать ей мою верность. Но всё было тщетно — подарки она возвращала, сама же не передала в ответ ни цветущей веточки, ни клочка бумаги. Возможно, Мицуко боялась прогневать жениха, ведь мой дядюшка всегда славился крутым нравом.
— И вас не останавливало то, что она предназначена в жёны вашему дяде и благодетелю? — не выдержал Хиромаса.
— Моё легкомыслие достойно порицания, — уныло согласился Дзютоку. — Но если бы вы хоть раз увидели её милое личико и волосы, сверкающие, как драгоценный камень, если бы услышали её сладкий голосок — вы бы не удивлялись охватившей меня страсти. Так или иначе, время близилось к свадьбе, и это приводило меня в отчаяние: ведь я знал, что если Мицуко переедет жить в наш дворец, о свиданиях придётся забыть. Все наши слуги были безраздельно преданы дядюшке, они не стали бы покрывать мои шалости... Уже ни на что не надеясь, в унынии я послал ей последнее письмо и — чудо из чудес — получил вот этот ответ.
— Весьма смелый ответ, — пробормотал Сэймэй.
— Да, кто бы мог подумать, что в её холодном сердце может таиться такое бурное чувство! — Дзютоку испустил печальный вздох. — О, женщины, как они непредсказуемы! Самый ветреный юнец — просто образец постоянства в сравнении с ними!
— Так что же было дальше?
— Само собой, я не мог оставить её призыв без внимания. В тот же вечер я надел платье попроще и потихоньку улизнул из дворца. Дядюшка не одобрял моих похождений, но привык к ним и не заподозрил дурного. В доме Томо уже погасили огни, но служанка, которая носила мои письма, оставила калитку открытой. Я без помех пробрался незамеченным в сад, а оттуда и в дом. Правда, служанка не вышла проводить меня, но я и так знал, где покои моей любимой...
Дзютоку умолк и покосился на Сэймэя.
— Дальше, — неумолимо потребовал тот.
Послушник залился краской, но поневоле продолжал, запинаясь и отводя взгляд:
— Мицуко всё же не принадлежала к высшему кругу, и воспитание её оставляло желать лучшего. К тому же она была до крайности неопытна в подобных делах. Когда я вошёл, она крепко спала, а когда я разбудил её — напугалась спросонья и чуть не подняла переполох. Пришлось набросить ей одежду на голову, чтобы избежать нежелательного шума. Впрочем, в её неискушённости была своя особая прелесть и чистота, какую редко встретишь у придворных дам. Под конец Мицуко расплакалась, как все юные девицы, которым доводится впервые распустить шнурки нижнего платья, и упрямо не желала слушать мои заверения в любви. Надо было мне тогда улучить возможность и исчезнуть, но её лицо, залитое слезами, было так прекрасно в лунном свете, что я совершенно потерял голову и до вторых петухов не мог выпустить её из объятий. Слишком долго я жаждал напиться из этого источника, чтобы удовольствоваться одним глотком... Наконец, в доме уже начали просыпаться люди. Тут я спохватился и вспомнил об осторожности, но слишком поздно. Едва успел я натянуть хакама, как в комнату вошла служанка и зачем-то подняла крик. В страхе, что всё откроется, я наспех похватал одежду и бежал, прикрыв лицо.
Больше всего я боялся, что меня узнают, ведь одно дело — посетить едва знакомую девицу из захудалой семьи, и совсем другое — соблазнить невесту дяди. Можете себе представить, какой ужас охватил меня, когда я обнаружил, что оставил в покоях Мицуко шапку и верхний пояс. О таких злоключениях занятно читать в романах, но, право, совсем не весело, когда они происходят с тобой. Несколько дней я провёл в неотступной тревоге, ожидая, что вот-вот всё откроется. Опасаясь разоблачения, я не мог даже послать Мицуко письмо после той ночи. Как она, должно быть, страдала, бедняжка! Не получив от меня знака внимания, она наверняка решила, что её застенчивость и робость возбудили во мне отвращение. Более того, чтобы отвести от себя подозрения, я начал посещать своих прежних любовниц, которых временно покинул ради Мицуко. Что она могла подумать при виде такого непостоянства? Неудивительно, что вскоре она заболела.
— Заболела? — переспросил Сэймэй.
— Да, дяде сообщили, что у невесты случилась лихорадка, но я-то знал, что она хворает от огорчения и любовной тоски. Увы, я не имел возможности послать ей слова утешения — хоть наша ночная встреча и осталась тайной, но я не мог рисковать. А потом Мицуко уехала с отцом на поклонение святыням Кумано, дарующим исцеление от болезней. Разлука лишь усилила мою любовь, и я твёрдо решил, что уж по возвращении непременно изыщу способ повидать её, но...
Голос Дзютоку прервался, на глазах выступили слёзы и побежали ручейками по вискам.
— Она умерла, не так ли? — промолвил Хиромаса, невольно поддаваясь сочувствию. Он всей душой осуждал поведение Суэдзуми, но всё же ощутил укол жалости в сердце. Пусть Суэдзуми поступил низко, совратив невсту дяди, но слёзы его были искренними, как и его скорбь, — слёзы сбившегося с пути человека, оплакивающего свои грехи.
— Да. Не доехав до Кумано, она скончалась в местечке под названием Китаяма, и там же её похоронили. Когда я услышал об этом, то чуть не лишился чувств от горя. О, насмешка судьбы! — ведь я любил её больше жизни, но именно моё жестокое молчание свело её в могилу.
— А что же ваш дядюшка? — напомнил Сэймэй.
— О, он всегда был чёрствым человеком и не подал даже виду, что горюет по невесте. Томо-но Ёсиката предложил ему вместо Мицуко взять в жёны Харуко, свою вторую дочь. Он утверждал, что та очень похожа на сестру, хотя они и родились от разных матерей: Мицуко — от его покойной старшей жены, а Харуко — от второй жены. Дядя согласился и взял в жёны младшую сестру, но мне не хотелось даже смотреть на неё. Вскоре я понял, что остальные дамы, которых я навещал, тоже опротивели моему сердцу; и тогда, охваченный скорбью по Мицуко, я решил обрить голову и стать монахом. Лишь с одной вещью я не смог расстаться — с этим письмом, из-за которого претерпел такие муки и такой стыд.
— Что ж, — Сэймэй быстро, словно кошка лапкой, подгрёб письмо и спрятал его за пазуху среди других бумаг. — Теперь вам больше ничто не угрожает, но я бы посоветовал всё-таки поменьше думать о ваших бывших возлюбленных и побольше — о вашем новом призвании. Чем больше вы будете отдавать себя служению Будде, тем меньше останется в вашей душе таких крючков, на которые вас могут подцепить тёмные силы. На этом позвольте вас покинуть. Нас с другом ещё ждут неотложные дела в городе.
И вышел так быстро, что Хиромаса едва нагнал его во дворе.
— Что теперь? — крикнул он, подбегая.
— Вот теперь — в усадьбу Такадзуми, — отозвался Сэймэй. — И поскорее!
***
Когда повозка остановилась возле усадьбы советника, Хиромасу поразила и взволновала перемена, произошедшая с этим местом. Ещё вчера ночью здесь горели праздничные огни, перед распахнутыми воротами стояли в ряд разукрашенные экипажи, по дорожкам сновали нарядно одетые слуги, из господского дома доносилась музыка, а сад, ярко освещённый фонарями, овеянный изысканными ароматами, казался земным подобием Западного рая.
Сейчас же, при свете пасмурного осеннего дня, усадьба казалась тихой и безлюдной, и на всём словно лежала печать уныния. Погасли фонарики на деревьях, исчезли знатные гости с многочисленной свитой, умолкли торжественные звуки кото и соловьиные голоса флейт, и вместо благоухания алойника и мускуса по ветру плыл резкий запах жжёного мака. Ворота были заперты, и лишь на стук выглянули двое хмурых слуг. Впрочем, Хиромасу они знали в лицо, тотчас открыли перед ним ворота и с поклонами проводили его и Сэймэя к дому.
Встретить гостей вышел домоправитель. Многословно извиняясь, он сообщил, что господин советник сейчас никого не принимает. Хиромаса замялся, не решаясь настаивать. Он был не настолько дружен с Такадзуми, чтобы по-свойски вломиться к нему без разрешения, и не настолько высокопоставлен, чтобы проявлять неучтивость по отношению к тому, кто старше и годами, и рангом.
— Очень жаль, — протянул Сэймэй, устремив мечтательный взгляд на расцветающие хризантемы. Казалось, его ничто не волнует, кроме окраски нежных махровых лепестков. — До меня дошли слухи, что младшая госпожа нездорова, и я имел смелость предположить, что господину советнику могут пригодиться мои услуги.
Пухлые губы домоправителя чуть дёрнулись в попытке сдержать ухмылку.
— Если вы прибыли только за этим, досточтимый господин Сэймэй, то вы опоздали. Сегодня утром, едва рассвело, мой господин хотел послать за вами, но ему сообщили, что вы изволили уехать из дома. Господин был очень расстроен. К счастью, в наш дом пришёл почтенный мастер Согю, прочёл над госпожой заклинания, и она тотчас поправилась.
— Вот как? — Сэймэй всё так же праздно любовался хризантемами, и рассеянная улыбка не сходила с его лица. — Я рад, что всё устроилось самым благополучным образом. А что стало с флейтой, причинившей вам столько хлопот?
— Мастер Согю сказал, что эта флейта опасна, — важно сообщил домоправитель. — Он забрал её, чтобы сжечь с надлежащими ритуалами.
Улыбка Сэймэя не поблекла, но тонкие брови на мгновение сдвинулись, на лбу обозначилась едва заметная морщинка — и тут же растаяла, словно облачко, мелькнувшее в ясном небе.
— Мудрость сего достойного человека не подлежит сомнению, — промолвил он. — Должно быть, мастер Согю назвал вам и имя злоумышленника, зачаровавшего флейту?
Домоправитель пожал плечами.
— Нет, об этом он ничего не сказал. Да ведь и так ясно, чья тут вина. Кто сделал эту ужасную флейту, кто играл на ней — тот и в ответе за это прискорбное происшествие.
— Разумное суждение, — Сэймэй послал Хиромасе короткий предупреждающий взгляд, прося не вмешиваться. — Однако мастер Ивами — человек известный и снискал великую славу в своей провинции. Говорят, что сам государь-инок изволил услаждать слух его игрой. Будет прискорбно, если этот случай бросит тень на доброе имя советника — ведь благородному человеку надлежит поощрять таланты, а не губить.
Домоправитель сцепил пальцы, явно скрывая волнение. Упоминание государя— инока оказало должное воздействие.
— Я не могу решать столь деликатные вопросы без ведома господина, — проговорил он, но тон его уже не был таким уверенным, как в начале беседы.
— Вы можете сделать кое-что другое, — с мягким нажимом проговорил Сэймэй. — Дайте мне повидаться с мастером Ивами, и я сразу же узнаю, колдун он или нет.
— Но мой господин почивает и велел его не беспокоить... — домоправитель сопротивлялся уже скорее по привычке.
— Мы его не побеспокоим, — Сэймэй доверительно понизил голос. — Наоборот, окажем ему услугу.
Мастера Ивами держали в каморке, построенной отдельно от главного дома. Нельзя было сказать, чтобы с ним обошлись очень уж сурово: в каморке было сухо и достаточно тепло, а еду ему принесли с общей кухни — может, не такую изысканную, какую подавали на пиру в господских покоях, но и не объедки. Было похоже, что мастера угнетает не столько заключение, сколько потеря драгоценной флейты.
— Это было моё лучшее творение, — едва не плача, жаловался он. — Навряд ли мне удастся когда-нибудь создать флейту с таким же совершенным голосом.
Хиромаса едва удерживался от слёз — он сам с трудом представлял, как смог бы пережить потерю своей флейты Хафутацу, случись с ней беда. Сэймэй тоже кивал с глубоким сочувствием, но о деле не забывал.
— Где же вырос тот бамбук, из которого была сделана эта флейта? — вкрадчиво спросил он. — Не может быть, чтобы там не нашлось ещё несколько подходящих веток.
— Я срезал его близ Китаяма, — Ивами повесил голову. — Но дело не в бамбуке, господин Сэймэй. Я каждый год срезаю ветки в бамбуковой роще на восточном склоне горы, где солнце хорошо сушит древесину. Но за всю мою жизнь лишь одна флейта имела такой дивный звук. Нет, сколько ни бери бамбук с того же места, "Вечерний вздох" останется неповторимой.
— Китаяма? — прошептал Хиромаса. — Это же то самое...
Но Сэймэй быстро перебил его:
— Простите, что снова напоминаю вам об утрате, — учтиво промолвил он, — но не могли бы вы сказать, отчего дали этой флейте такое имя?
Мастер печально улыбнулся.
— Всё просто, господин Сэймэй. Когда я в тот раз пришёл за бамбуком, был как раз вечер. А когда я срезал ветку, ветер так прошумел в листве, что мне послышался чей-то печальный вздох. Уже тогда я решил, что флейта из этого бамбука будет зваться "Вечерний вздох".
— Действительно, просто, — пробормотал Сэймэй, — и всё же достойно изумления. Боюсь, теперь я должен откланяться. Благодарю за беседу.
— ...Ну, что? — жадно спросил Хиромаса, пока они шагали к воротам. — Я прав? Беда случилась оттого, что этот бамбук из Китаяма вырос на могиле Мицуко?
— Да, — отозвался Сэймэй. — Но дело не только в этом.
— А в чём тогда?
Сэймэй повернул к нему разом посерьёзневшее лицо.
— В том, что люди, умершие от болезни, не преследуют бывших любовников и не поражают родственников безумием.
***
— Мы пойдём туда?
Без особого воодушевления Хиромаса смотрел на заброшенный дом под одиноким камфорным деревом. Казалось, только совы да летучие мыши могут гнездиться в таком глухом месте, но Хиромаса знал, кому на самом деле принадлежит это убогое жилище. Однажды он вместе с Сэймэем уже бывал в гостях у преподобного Согю, некогда известного в столице под именем Асии Домана, а теперь обитающего здесь на пустошах среди диких зверей и птиц.
В презрении, которое Доман ныне проявлял к мирской славе и к роскоши, в его неопрятности и грубой простоте манер было что-то от святых монахов-аскетов, проповедующих отказ от земных благ ради возвышения души. Но бродячие монахи веровали в милосердие Будды и призывали к этому мирян; Доман же был одинаково далёк и от проповедей, и от милосердия. Будучи одним из сильнейших оммёдзи столицы, он пользовался своим даром редко и лишь для собственного удовольствия. Он ни во что не ставил человеческую жизнь, но его забавляло кипение человеческих страстей. Он мог сотворить чудо — неважно, доброе или злое — лишь для того, чтобы бросить камень в это вечно бурлящее озеро и полюбоваться кругами на поверхности.
Хиромаса не любил Домана. Откровенно говоря, он его побаивался, но не мог отрицать, что этот мрачный, неряшливый и пьяноватый отшельник обладает странной силой подчинять себе людей. Впрочем, это было лишь ещё одной причиной опасаться его. Идти к нему очень не хотелось, но если Сэймэй сочтёт нужным...
Однако Сэймэй так и не ответил на вопрос. Раздвинув планки бамбуковой занавески на окошке экипажа, он разглядывал в щёлку унылый пейзаж вокруг повозки. Хиромаса тоже отогнул занавеску со своего конца, но увидел только заросшую кустарниками пустошь, камфорное дерево да заброшенный дом...
Как раз в этот момент на тропинке, ведущей от дома, показалась женщина. Она, видимо, старалась остаться неузнанной, для того и нарядилась в старое линялое верхнее платье и набросила подол на голову. Но осанку дамы, воспитанной в благородном доме, не спрячешь под старой одеждой, а длинные ухоженные волосы не прикрыть дырявым тряпьём.
Мелкой походкой, не поднимая головы, женщина просеменила мимо стоящей за кустами повозки. Хиромаса не удивился её невнимательности — Сэймэй был мастер отводить глаза не только демонам, но и людям, когда хотел остаться незамеченным. Удивляло другое: как вообще приличная дама могла прийти в одиночку в такое место? Это не просто выходило за рамки всех приличий, это было... всё равно как если бы дождь пошёл снизу вверх.
— Не узнал её? — тихо спросил Сэймэй.
Хиромаса развёл руками. Женщины из благородных семей не показываются на людях, проводя всё время за ширмами и переносными занавесами. Даже если Хиромаса и встречал её раньше — как узнать ту, чьего лица никогда не видел?
— Ладно, — пробормотал Сэймэй, выходя из повозки. — Я сам поговорю с Доманом, а ты подожди здесь, пожалуй.
Хиромаса облегчённо вздохнул.
— Сэймэй, — не удержался он, — а ты знаешь эту женщину?
— И да, и нет. Подожди, Хиромаса. Мне осталось выяснить совсем немного.
...Ждать пришлось недолго. Всего через четверть стражи занавес повозки снова отдёрнулся, и Сэймэй забрался внутрь. Лицо его было мрачным, но взгляд — серьёзным и сосредоточенным, как у стрелка, перед которым в тумане наконец-то проявилась цель.
— Едем, — бросил он, ничего не объясняя.
— А флейта? — заикнулся было Хиромаса. — "Вечерний вздох"?
Сэймэй только грустно покачал головой.
***
Господин Томо-но Ёсиката явно чувствовал себя неуютно. Не от холода — растопленная жаровня успешно прогоняла сырость осеннего вечера. И не от того, что сидел он в доме Абэ-но Сэймэя, колдуна и чуть ли не оборотня, о котором по всей столице ходили слухи, один другого удивительнее. По крайней мере, его не напугали ни ворота, открывающиеся сами собой, ни совершенно дикий с виду сад, ни девицы в ярких платьях, подавшие столики с изысканным угощением и подносы с сакэ и крохотными яшмовыми чашечками. А вот праздная болтовня Сэймэя, похоже, вызывала у гостя куда большее напряжение.
— Вы пригласили меня отужинать, — Ёсиката краснел и мялся, так и не прикоснувшись к еде. — Премного благодарен за честь.
— Что вы, — благодушно улыбнулся Сэймэй. — Угощайтесь, пожалуйста.
— Прошу меня простить, — Ёсиката, похоже, решил отбросить этикет и идти напролом. — Вам должно быть известно, что моя дочь вчера ночью тяжко занемогла. Хотя ей уже лучше и опасность миновала, всё же в это время мне надлежит быть рядом с ней. И потому осмелюсь спросить прямо: что за дело вы желали со мной обсудить?
— Что ж, — Сэймэй поднял глаза, и радушная улыбка тотчас исчезла с его лица. — В таком случае позвольте и мне быть откровенным. Я хочу поговорить о том, что произошло с вашей дочерью Мицуко три года назад в селении Китаяма, в бамбуковой роще на восточном склоне горы.
Ёсиката издал невнятный звук и отшатнулся. Его круглое лицо стало мучнисто-белым, словно лепёшка-моти.
— Я не понимаю, о чём вы говорите! — голос чиновника задрожал, срываясь на почти женский взвизг. — Я не знаю!
— Может быть, вот это освежит вашу память? — Сэймэй положил на пол перед собой листок голубой бумаги и веером подвинул его к гостю.
Ёсиката пробежал глазами стихотворение и закрыл лицо руками.
— Что это? — сдавленно спросил он.
— Письмо Фудзивара-но Суэдзуми к вашей дочери и её ответ. Его вещи, забытые в спальне Мицуко, вы, конечно, уничтожили, но этого письма и рассказа самого Суэдзуми будет достаточно, чтобы доказать их связь.
Руки Ёсикаты безвольно опустились.
— Что вы хотите за то, чтобы сохранить это в тайне? Назовите цену.
— Для начала, — Сэймэй произнёс эти слова с нажимом, — я хочу услышать от вас правду о том, что произошло во время паломничества в Кумано. О цене поговорим потом. И, имейте в виду, мне известно больше, чем вы думаете, так что не пытайтесь лгать.
Ёсиката смотрел на него, как на демона во плоти. Прошло несколько секунд, прежде чем он пересилил себя и заговорил:
— Не думайте, что я такое уж бессердечное чудовище. Я любил дочь. Она была для меня живой памятью об умершей жене. Я дал ей хорошее воспитание, она прекрасно писала, слагала стихи, играла на кото... — Он прерывисто вздохнул, почти всхлипнул. — Да, "Такасаго" — это её любимая песня, она исполняла эту вещь с несравненным мастерством. В тот вечер, когда советник изволил проезжать мимо нашего дома, Мицуко как раз играла эту песню — и он остановился послушать, так оно и началось... Когда господин советник посватался к Мицуко, я был вне себя от счастья — такая блестящая партия для моей скромницы. Это, знаете ли, всё равно что на невзрачного червячка поймать рыбу с золотой чешуёй. Всё время, пока шла подготовка к свадьбе, я день и ночь молился, чтобы этот брак состоялся благополучно, — и никак не ожидал, что любимая дочь нанесёт мне такой удар.
Когда жена рассказала, что у Мицуко был мужчина, я не хотел верить, но доказательства были налицо. И если бы она спуталась с любым другим придворным — так ведь нет! По потерянному поясу мои слуги смогли потихоньку разузнать, что любовник Мицуко — не кто иной как племянник господина Такадзуми.
Положение было ужасное. Господин Такадзуми не забывает обид. Если бы он узнал, что Мицуко накануне свадьбы распутничала с его собственным никчёмным племянником, его ярость была бы ужасна. Наша семья небогата и лишена покровителей — перед гневом господина советника мы были бы как сухая травинка перед ураганом. Невозможно было ни открыть правду, ни расторгнуть уговор без объяснений. А если бы господин разделил ложе с Мицуко, если бы взял её жить в одном доме с развратником Суэдзуми — всё рано или поздно выплыло бы наружу...
Ёсиката вскинул голову; его глаза блестели от слёз:
— Я любил дочь! Но что мне было делать, что?
— Мысль об убийстве вам подала жена, не так ли? — В лице Сэймэя ничто не изменилось. — Объявить Мицуко больной, увезти её подальше под предлогом совершения молитв об исцелении, потом рассказать, что она скончалась в дороге и предложить советнику в жёны другую дочь — это ведь она придумала?
— Да, — во взгляде Ёсикаты отразилось что-то вроде облегчения. — Да, это всё она. Поистине, в каждой женщине сидит демон... но я благодарен ей за то, как ловко она всё обстряпала.
— Однако привести её замысел в исполнение пришлось вам, — продолжал Сэймэй ужасающе спокойным голосом. — Вы не доехали до Кумано, а остановились возле Китаямы. Там есть славная бамбуковая роща, верно?
Теперь Ёсиката дрожал всем телом, словно в лихорадке, и губы у него тряслись, с трудом выговаривая слова.
— Я... я привёл её в рощу. Она шла молча. Она всё время молчала с того дня. Не отвечала, даже когда я её бранил. Я сказал ей: "Эта роща — священное место. Вознеси молитву всемилостивой Каннон, чтобы твои грехи были прощены". Она стала молиться, а я... я набросил пояс ей на шею и... Она не хотела... царапала мне руки, вырывалась. У меня был нож. Мне пришлось... Почему, почему она не умерла сразу? — Выкрикнув это в полный голос, Ёсиката упал на пол и зарыдал.
Сэймэй смотрел на него без всякого выражения. Потом повернулся к дальней стене покоев.
— Господин советник, достаточно ли вы услышали? — громко спросил он.
— Достаточно, — ответил властный мужской голос. При звуке этого голоса Ёсиката глухо завыл и прижался лбом к полу.
Поднявшись из-за столика, Сэймэй отдёрнул занавеску, отделяющую комнату от смежной. Потом отступил в сторону, освобождая проход, опустился на пол рядом с Ёсикатой и замер в почтительном поклоне.
Фудзивара-но Такадзуми величавой поступью проследовал на хозяйское место и сел. Сэймэй тотчас протянул ему на веере листок со злополучным стихотворением. Такадзуми прочёл его, темнея лицом и катая желваки по скулам.
— И в этом, — он поднял листок двумя пальцами, как дохлую муху, — причина безумия, постигшего мою жену?
— Совершенно верно, — Сэймэй склонил голову. — Душа человека, умершего насильственной смертью, часто становится мстительным призраком. Смерть Мицуко была жестокой, и обида на убийц превратила её в гневного духа. Флейта из бамбука, выросшего на её крови, и это письмо, которое на беду сохранил ваш племянник, стали проводниками её гнева.
— Неприятная история, — угрюмо проговорил Такадзуми. И умолк надолго, вертя письмо в руках.
Ёсиката и Сэймэй замерли в ожидании, один — дрожа от страха и сдавленных рыданий, другой — с невозмутимым лицом и безупречно прямой осанкой. Такадзуми разглядывал обоих исподлобья, чуть покачивая головой, словно взвешивал на весах невидимый груз.
Потом наклонился к жаровне и положил листок в угли. Бумага съёжилась от жара, потемнела и нехотя вспыхнула с одного конца. Огонь побежал по строчкам, обращая в пепел неосторожные слова, которые никто больше не прочтёт.
— Вы отец моей жены, — Такадзуми обращался к Ёсикате, но смотрел на Сэймэя, и взгляд его был тяжёл, словно каменная плита, какими дробят колени преступникам. — Я не могу допустить, чтобы это происшествие бросило тень на ваше имя. Вы поступили жестоко, но я могу понять ваши чувства. Вступив в преступную связь с моим племянником, Мицуко оскорбила меня, предала мою любовь. Такое вероломство не может быть прощено. Но вы со своей стороны сделали всё, чтобы загладить её вину, и я ценю вашу жертву.
Ёсиката мелко закивал, утирая слёзы. На его бледном заплаканном лице расплывалась глупая улыбка.
— Всё, что прозвучало здесь, не должно выйти за двери этого дома, — продолжал Такадзуми. — Я не потерплю, чтобы имя моей семьи трепали болтливые языки. Это ясно?
Сэймэй склонился ещё ниже, почти простёршись на полу.
— Твои услуги не останутся без награды, — сухо добавил Такадзуми. — И то, что ты снял подозрение с мастера Ивами, тоже не будет забыто. Но об остальном молчи.
— Как вам будет угодно, — ровно отозвался Сэймэй.
Такадзуми поднялся, бросил на колдуна последний испытующий взгляд и вышел. Вслед за ним засеменил и Ёсиката, оставив хозяина в одиночестве.
Когда их шаги затихли в садовой траве, Сэймэй выпрямился и придвинул к себе столик с нетронутым угощением.
— Выходи, Хиромаса, — позвал он. — Будем ужинать.
Хиромаса приподнялся и зашипел, распрямляя затёкшие от неподвижности ноги. Ширма, за которой его спрятал Сэймэй, располагалась так близко к месту, где восседал советник, что Хиромаса не мог даже пошевелиться, опасаясь выдать себя шорохом одежды. А уж сколько раз ему пришлось прикусывать язык, сдерживая возгласы изумления и гнева — не счесть. Но как только вынужденное молчание закончилось, его прорвало:
— Сэймэй! Это правда? Он убил свою дочь? Вот так, своими руками взял и убил? Неужели Такадзуми замнёт эту историю? Мне не понравилось, как высокомерно он с тобой разговаривал! И что, на этом всё и закончится?
— Ты сам слышал. Господин советник не хочет огласки. Он считает, что Мицуко получила по заслугам.
— Но это же ужасно! — Хиромасу передёрнуло. — Казнить родную дочь... погубить юную жизнь из-за одного опрометчивого письма...
— Мицуко не отвечала на это письмо.
— Что? — тихо переспросил Хиромаса.
— Ты видел лицо Такадзуми, когда он читал. — Руки Сэймэя двигались неторопливо и плавно, разливая сакэ по чашкам, а лицо могло поспорить безмятежным выражением с деревянными статуями Будды. — Как ты думаешь, ему хорошо знаком почерк его второй жены?
На миг Хиромасе показалось, что он вдохнул горячий дым из жаровни — дыхание застряло в груди колючим комком.
— Харуко? — пробормотал он непослушными губами.
— И её мать, — спокойно добавил Сэймэй. — Дочь могла написать письмо, даже не зная толком, для чего оно предназначено, но мать, конечно, знала всё. Именно она велела Харуко написать ответ, зная, что почерк сестёр очень похож. Именно она позаботилась о том, чтобы распалённый обещаниями Суэдзуми без помех добрался до покоев Мицуко и сделал своё дело. Именно она убедила мужа, что единственный способ сохранить всё в тайне — убить опозоренную дочь. И именно она заплатила Доману за то, чтобы флейта, уличающая их в преступлении, была немедленно уничтожена. — Он умолк, поднося яшмовую чашечку к губам.
— Но... зачем? — Хиромаса всё ещё не понимал. Сэймэй взглянул на него с лёгким недоумением.
— Ты ещё спрашиваешь? Чтобы женой советника стала её родная дочь, а не падчерица. Только для этого.
Хиромаса выпил свою порцию залпом и не почувствовал вкуса. Во рту было горько, будто смолы положили на язык. Одно письмо, дописанное чужой рукой. Один похотливый юнец, привыкший к женской покорности. Один трусливый чиновник, готовый на всё, чтобы не упустить богатого и влиятельного тестя.
Так просто. Так... мерзко.
— Что теперь будет? — через силу спросил он.
— Госпожа Харуко поправится. Мастер Ивами будет оправдан. Дзютоку примет обеты, и призрак больше не явится к нему, — Сэймэй неторопливо допил сакэ, отставил чашечку и потянулся за кувшином, изящно придерживая крылатый рукав.
— И это всё?
— Всё. А ты чего ждал?
— Сэймэй! — Хиромаса со стуком опустил чашечку на стол. — Не говори так!
— Как?
— Как будто тебе всё равно, что невинная девушка опорочена и убита и никто за это не наказан! Как будто... как будто это в порядке вещей!
— А разве нет?
Хиромаса не нашёлся, что ответить — только молча глотнул воздух, как от удара поддых.
— Если благородные, всеми уважаемые люди приняли это как должное, — голос Сэймэя был так обманчиво-прохладен, что другой человек не расслышал бы в нём насмешки. — Если они сочли такой выход наилучшим, значит, это действительно в порядке вещей. Чем ты недоволен?
— Я... — Хиромаса оттянул ворот носи. — Я думал, Такадзуми вступится за память своей невесты. Разве он не любил её?
— Он хотел красивую, кроткую, верную жену. Он её и получил. Правда, её зовут Харуко, а не Мицуко — ну и что? Сводные сёстры оказались достаточно похожи, чтобы сгладить чувство потери. Харуко живёт в его доме три года, у них есть сын и нет причин для недовольства. В том-то и дело, Хиромаса. Все довольны нынешним положением дел и не хотят ничего менять. Живым проще жить, предав прошлое забвению. А мёртвых никто не спрашивает.
— Разве это справедливо? — совсем уж тихо проговорил Хиромаса.
— Разве здесь кто-то говорил о справедливости?
— Сэймэй! Мы говорим о жизни и смерти, а ты играешь словами!
— Я не играю. Я просто хочу понять, чего ты добиваешься. И хочу, чтобы ты сам это понял.
— Я... — Хиромаса наконец справился с болезненной судорогой, клещами сжавшей горло. — Я хочу восстановить справедливость. Я хочу, чтобы Ёсиката и его жена заплатили за содеянное. Они — убийцы и должны ответить за это.
— Кто призовёт их к ответу?
— Если больше некому... — Хиромаса вскинул подбородок. — Тогда это сделаю я.
— Хорошо, — удовлетворённо сказал Сэймэй, словно только и ждал этого ответа. Запустил руку за пазуху и вытащил нечто тонкое, длинное, завёрнутое в платок из цветного шёлка. Развернул ткань — внутри была флейта из тёмного бамбука.
— Сэймэй! — У Хиромасы перехватило дыхание, по спине словно холодный ветерок прошёл. — Это та самая?.. Значит, Доман всё-таки не сжёг её?
Колдун медленно кивнул.
— Хватит ли тебе духу сыграть на этой флейте? — Его взгляд, пронзительный и чуть насмешливый, не отрывался от лица друга. — Хватит ли тебе силы, чтобы своими руками восстановить справедливость?
Хиромаса молча протянул руку и взял у него флейту вместе с платком.
***
Ночной туман наполнил сад сыростью, осел на листьях густой росой и исчез. Это был ухоженный сад, не то что у Сэймэя — ровные дорожки, опрятные цветники, маленький пруд и мостик над ручьём. Заполучив в зятья господина советника и поправив дела, Ёсиката ещё не собрался переехать в дом попросторнее, но старую усадьбу обустроил и облагородил, как мог. Теперь каждый, заходя сюда, мог видеть, что здесь обитает состоятельная, уважаемая семья.
Правда, сейчас Хиромасе не было дела до красот сада и дома. Он пришёл сюда незваным гостем и меньше всего был настроен любоваться ночным пейзажем.
Такая тишина стояла кругом, будто весь город вымер; только из-за стен дома мерцал свет и доносились приглушённые голоса. Супруги не спали — то ли бранились, обвиняя друг друга в старых грехах, то ли радовались, что гроза прошла стороной.
Хиромаса взял в руки флейту. Дерево показалось ему тёплым и странно податливым, словно живая плоть, и когда он прижался к ней губам — что-то дрогнуло в сердце, как если бы то был поцелуй.
Она ведь жила здесь, в этом доме. Рвала цветы в этом саду, глядела на звёзды с этой веранды, перебирала струны кото, писала стихи, играла в го с младшей сестрой. И совсем не хотела умирать.
Кто же решил, что она — лишняя здесь? Кто выбросил её из этой жизни, которая могла стать для неё счастливой?
Первый звук флейты был неровным, дрожащим, как рыдание. Он пронзил темноту над деревьями, упал за дом — и голоса внутри мгновенно утихли. Мелодия потекла медленными тягучими каплями — горячим воском со свечи, слезами из-под сомкнутых ресниц, кровью из вскрытых жил.
Хиромаса не в первый раз исполнял "Такасаго", но впервые в жизни он играл её так ожесточённо, сплетая горечь предательства и боль унижения, неутолимую жажду жизни и безмолвный ужас конца. Он играл, желая вернуть голос навеки онемевшим устам, излить гнев и муку безвинно погубленной души — и флейта вздрагивала в его руках, будто живое сердце, исходящее тёмной, горячей кровью.
Он играл...
— Смилуйтесь!
— Пощадите!
— Не надо больше... о-о, прекратите!
— Пощадите, добрый господин!
Жалобные крики, что сначала показались ему не громче стрёкота осенних цикад, становились всё отчётливее, назойливо лезли в уши, перебивая мелодию. Чьи-то слабые руки хватали его за одежду, цеплялись, как паучьи лапки; не мешали, но отвлекали, нарушая сосредоточение. Хиромаса перевёл дыхание и отнял флейту от губ, с усилием возвращаясь из мира песни в мир людей.
На земле перед ним скорчились двое. Тучный мужчина в исподнем рыдал, размазывая по лицу слёзы и грязь. Женщина в тонком хитоэ и ути-бакама билась головой о землю, зажимая уши руками, и её холёные волосы волочились по сырой траве.
Ёсикату он знал в лицо. Женщину тоже видел раньше — это она тайком уходила от жилища Асии Домана сегодня днём.
— Пощадите, — с трудом простонал Ёсиката.
— Не играйте больше, — взмолилась его жена, подползая к ногам Хиромасы.
— Что угодно... что прикажете, только не это...
— Не губите...
Хиромаса опустил флейту. Он не чувствовал торжества — лишь тошноту и бесконечную усталость.
— Уходите, — приказал он. Если бы он мог слышать свой голос со стороны, то удивился бы его холодному мертвенному звучанию. — Покиньте город и никогда не возвращайтесь. Ступайте в обитель на горе Коя, примите постриг и до конца дней молитесь за упокой души той, которую вы убили. Если завтрашнее утро застанет вас в стенах столицы — эта флейта запоёт снова.
Они зарыдали и отползли на коленях назад, не решаясь подняться. Видеть их уничижение, слушать бессвязные мольбы было неприятно, и Хиромаса быстро, не оборачиваясь, зашагал к воротам. На ходу он бережно завернул флейту в платок и спрятал на груди.
Сэймэй стоял у ворот снаружи, но Хиромаса не сомневался, что он видел и слышал всё, произошедшее в саду. Колдун он, в конце концов, или нет?
— Превосходно, — вполголоса сказал Сэймэй. Нагнав друга, он зашагал рядом с ним. — Ты играл превосходно, Хиромаса. Ты действительно мог свести их с ума, если бы не остановился.
— Это всё флейта, — Хиромаса погладил её сквозь одежду. — "Вечерний вздох" сделал своё дело.
— Да. Только это не "Вечерний вздох".
— Что?
Сэймэй улыбнулся тонко и коварно, как настоящий лис.
— Доман действительно сжёг флейту Ивами. Даже если бы жена Ёсикаты не заплатила ему, он бы сделал это всё равно — лишь бы досадить мне. Очень жаль, но "Вечерний вздох" потерян навсегда.
Хиромаса растерянно смотрел на друга.
— Тогда что же ты мне дал?
— Другую флейту работы Ивами, из его старых запасов. Тоже хорошую, но, увы, совершенно обычную.
— Не понимаю... — Хиромаса оглянулся через плечо, но в доме уже не горел ни один огонёк. — Если это была простая флейта, тогда что их так напугало?
— Ты, Хиромаса. Ты думал, что это волшебная флейта, а потому играл с невиданным вдохновением. А они подумали, что только волшебная флейта может звучать так прекрасно, и испугались, что она сведёт их с ума, как Харуко. Нечистая совесть — страшная сила.
— Ты обманул меня, — проговорил Хиромаса, слишком усталый, чтобы сердиться по-настоящему.
— Да, но с твоего согласия. Разве ты не хотел добиться справедливости? Это был единственный способ выполнить твоё желание.
— Вечно ты всё усложняешь, — буркнул Хиромаса. — Ты ведь мог сам припугнуть их. Заколдовать, свести с ума, заставить раскаяться. Разве нет?
— Нет.
Сэймэй остановился. Они уже некоторое время брели вверх по улице впотьмах, потому что тонкий тусклый месяц почти не давал света. В темноте лицо Сэймэя опять казалось безмятежным, но голос — голос выдавал слишком многое.
— Хиромаса, ты помнишь, что я говорил о заклятиях?
— Что самое сильное заклятие — это устремление человеческого сердца. Да?
— Верно. Именно поэтому я не смог бы сделать то, что смог ты.
— Объясни, — попросил Хиромаса.
— Ты видишь, что справедливость восторжествовала хотя бы здесь, и радуешься этому. Я вижу иначе: то, что мы сейчас сделали — всего лишь камешек. Маленький камешек, упавший на дно реки. Бросая в реку камни, ты не изменишь её русла, не остановишь течения. Более того: реке всё равно, чёрный или белый камень ты бросил. Через сто лет никто не вспомнит, чем закончилась эта история. Через тысячу лет люди даже забудут нас с тобой.
Хиромаса молчал.
— Знания, — вздохнул Сэймэй, — иногда становятся помехой. Я не могу забыть о том, что все наши дела — камешки, падающие в реку. Я слишком долго учился вглядываться в глубину этой реки, чтобы сосредоточить все помыслы на одном камешке. Поэтому мне не обойтись без тебя. Твоя жажда справедливости, твоя готовность добиваться этой справедливости здесь и сейчас — вот заклятие, которому нет равных по силе, Хиромаса.
— Но цена всех усилий — горсть белых камешков? — Хиромаса поискал глазами месяц, но тот уже уплыл в облака, и город погрузился в кромешный мрак. — Ты это хотел сказать мне, Сэймэй, — что течения не изменить?
— Я не знаю. Даже мне не дано увидеть всё русло реки. А у неё нет ни конца, ни истока.
В чёрном небе замерцал едва заметный блик, потом показался острый серебряный рог — месяц проткнул облачную сеть и выбрался наружу. На землю пролился призрачный свет — его насилу хватало, чтобы разглядеть, куда идти. Но глаза, привыкшие к темноте, уже без труда отыскивали дорогу.
— Ну и ладно, — проворчал себе под нос Хиромаса. — Тогда идём домой.
Размер: миди
Пейринг/Персонажи: Абэ-но Сэймэй, Минамото-но Хиромаса/ОЖП, ОМП
Категория: джен, гет
Жанр: мистика, детектив, кейс
Рейтинг: R - NC-17
Предупреждения: насилие, сомнительное согласие, каннибализм
От автора: Писалось на заявку "про то, как Хиромаса еще раз влюбился в девушку с каким-нибудь потусторонним сюрпризом". Немножко историзма (в части мятежа Масакадо), немножко натурализма, немножко реализации собственных кинков - люблю херт-комфорт на фоне дружеских/братских отношений и отдельно люблю сильных женщин с оружием.

В таком положении он не мог видеть лица стоящего перед ним человека. Видел только его сапоги из прекрасно выделанной оленьей кожи, окрашенные в шафранный цвет хакама и ножны, покрытые чёрным лаком. Ножны чуть покачивались — человек гладил ладонью рукоять меча. По лаку перебегали красноватые блики.
— Я должен казнить тебя, — проговорил хриплый невыразительный голос, едва различимый за рёвом огня. — Мы не оставляем в живых никого, способного держать оружие.
Он рванулся, скользя коленями по грязи, но чужие руки сильнее надавили ему на плечи, не давая выпрямиться. Позади что-то затрещало, в затылок дохнуло жаром — это в горящем доме обрушилась ещё одна балка. В луже перед глазами метались багровые отсветы пламени, превращая мутную воду в кровавое болото.
— Но меня просили помиловать тебя, — продолжал голос, и на сей раз в нём звучала неприкрытая издёвка. — Так просили, что я не смог отказать. Я пообещал сохранить тебе жизнь и сдержу слово. Развяжите его.
Верёвки заскрипели под лезвием ножа, ослабли, распуская кольца. Освобождённые руки пронзило болью до самых лопаток, и он не сдержал стона. Человек с мечом засмеялся.
— Что, руки затекли? Ничего, сейчас тебя полечат. И думать забудешь, что у тебя что-то болело.
Ещё один пинок в спину — застигнутый врасплох, он упал, и его тотчас прижали к земле. Кто-то схватил его за натёртые верёвкой запястья, заставляя вытянуть руки над головой. Зачем — он понял лишь тогда, когда его кисти зажали в деревянную колодку.
— Я отпущу тебя живым. — Оленьи сапоги остановились перед его лицом, заляпанный грязью мысок упёрся в щёку. — Но ты никогда не возьмёшь в руки оружия.
И в эту минуту он догадался, что с ним хотят сделать, — и вскрикнул, пытаясь вырваться. Но на ноги навалилась тяжесть: кажется, один из тех, кто держали его, просто сел сверху. Теперь он не мог даже привстать, только бессильно дёргался, сжимая кулаки. Человек в оленьих сапогах отошёл в сторону, вместо него в поле зрения шагнул кто-то другой, и над головой зашелестела сталь, выходя из ножен.
Поймав краем глаза огненный блик на металле, он бешено забился, пытаясь выдрать руки из колодок, прежде чем на них опустится лезвие. Но меч не коснулся его кожи, а вонзился глубоко в землю перед колодкой, точно между его запястий. Тёмный, старый на вид, чуть ли не щербатый клинок. Дрянь, а не меч...
Он ещё не успел обрадоваться, когда ему на руки полилась холодная, скользкая жидкость. И не успел толком испугаться, когда вслед за жидкостью сверху полетела горящая головня.
Пропитанные маслом рукава вспыхнули в один миг — двумя чадящими факелами.
От чудовищной боли он выгнулся дугой, чуть не вырвавшись из хватки палачей. Его удержали, прижали ещё сильнее, навалились сверху. Перед глазами плыли зелёные пятна, кровь со звоном колотилась в голове, но не могла заглушить пронзительный, разрывающий уши вопль — его собственный вопль.
Рукава рассыпались чёрной сажей; кожа под ними шипела, вздувалась пузырями и лопалась, облезая, как шкурка с печёного батата. Оголённая плоть чернела и схватывалась обугленной коркой. Он орал, сколько хватало дыхания, захлёбывался на вдохе и снова орал, надсаживая горло, — но крик не приносил облегчения. Он бился, как рыба на крючке, извиваясь всем телом, но горящая колодка была ещё крепка, и вонзённый в землю меч удерживал её на месте, не давал подтянуть руки к себе.
Бессмысленно дёргаясь в чужих руках, срываясь на задыхающийся вой, он услышал рядом другой крик — отчаянный и протестующий. Но оглушённое болью сознание уже гасло, милосердно позволяя соскользнуть в темноту.
...Хиромаса судорожно втянул воздух — сорванное горло саднило. Перед глазами ещё метались багровые сполохи, но здесь не было огня, кроме одинокого светильника в углу. Жар разливался по всему телу волнами ломоты, теснил грудь, ворочался тошнотой внутри. Прерывистый стук сердца отдавался ноющей болью в висках.
Шорох заставил его повернуть голову. Комната закружилась колесом, зрение раздвоилось. Хиромаса не сразу понял, что чёрное пятно перед ним на полу — это кошка. Она сидела прямо у постели и укоризненно смотрела на него зелёными мерцающими глазами.
— Глупый, глупый Хиромаса, — сказала кошка голосом Сэймэя. — Что ж ты меня сразу не позвал?
"Прости", — хотел сказать он, но пересохший язык отказывался шевелиться. Комната и кошка расплылись перед глазами и исчезли в мутной горячей темноте.
Потом жар ушёл, подступил озноб, и стало холодно, совсем холодно и пусто. Кажется, шёл снег — кожу покалывало, как ледяными иглами, но ничего не было видно: темнота смыкалась кругом, погребая под собой дрожащее тело. Каждый порыв ветра обжигал, как удар бича, руки болели и не разгибались, а ноги уже ничего не чувствовали, и оставалось только забиться под стену и съёжиться, поджав колени к животу, сберегая жалкие остатки тепла. Внутренности сводило от лютого голода, в ушах стоял тонкий звон — предвестник скорого обморока.
Но рядом в кромешном мраке находилось ещё что-то... Разум отказывался принимать это, разум противился в ужасе, и тошнота пересиливала голод, а рот наполнялся дурнотной горечью. Но сосущая боль под ложечкой не унималась, и сознание мутилось всё больше — от холода, от слабости, от сводящего с ума запаха гари и... печёного мяса.
Рыдание вырвалось сквозь закушенные губы, переходя в тихий, безнадёжный вой.
Некому молиться. Не на что надеяться. Люди, боги, духи предков — никто не придёт на помощь, чтобы спасти живых и отомстить за убитых. Кошмар не прекратится, пока сердце не остановится, сдавшись холоду и бессилию.
И можно только лечь в снег и тихо умереть. Или...
...скрутив тошноту, запрещая себе думать, нашарить это — холодное, давно окоченевшее. Ощупью найти то место, где огонь лишь опалил, а не обуглил кожу. И, давясь слезами и слюной, стиснуть зубами вязкое, жёсткое мясо; стиснуть и надкусить.
Прости меня, прости меня, прости меня...
Темнота — сплошная, без единого проблеска. Холод, пронзающий тело, как тысяча ножей. Мучительная резь в отвыкшем от пищи желудке.
И такое же беспросветное, пронизывающее, мучительное ощущение собственной мерзости и греха, несмываемого навеки клейма на своей душе. Ощущение, от которого хочется умереть на месте, чтобы не осквернять землю своей нечистой тенью...
Шорох.
Влажное, сопящее дыхание в лицо. Тёплый звериный запах, щекотка жёстких усов... Cобака?
"Сам ты собака".
По коленям затопали, затанцевали маленькие лапы, в щёку ткнулся мокрый холодный нос.
"Хватит рассиживаться, пойдём".
"К... куда?"
"За мной".
"Я тебя не вижу. Темно..."
"Так открой глаза, бестолочь!"
Он открыл глаза — и вырвался из ледяного кошмара в благословенную явь.
Здесь было тепло — о боги, тепло и светло! Откуда-то сверху наискосок падали солнечные лучи, брызжа прямо в лицо, золотыми иглами пронизывая струйки дыма от благовонных палочек. В воздухе плыл густой аромат сандала и алойного дерева. Он не мог понять, где находится — головокружение смешивало всё в размытые пятна, мысли путались и обрывались на середине. Тело казалось тяжёлым, неповоротливым, как свёрток мокрого шёлка, запёкшиеся губы саднило. Как бы со стороны Хиромаса услышал свой стон — и почти сразу же чья-то рука приподняла ему голову, а перед лицом оказалась чашка, к которой он припал, как ребёнок к груди кормилицы.
Питьё оказалось тёплым, с горьковатым привкусом незнакомых трав. Хиромаса выхлебал чашку в несколько глотков и, едва утолив жажду, провалился обратно в сон — к счастью, в обычный глубокий сон без всяких кошмаров.
Когда он проснулся в третий раз, солнечный свет уже не бил в глаза, а стелился по телу тёплой полосой, согревая грудь и ноги. С удивлением Хиромаса осознал, что лежит на голом полу и сам почти раздет, если не считать набедренной повязки. С трудом повернув гудящую голову, он огляделся, узнавая столько раз виденный узор на занавесях, груды свитков на столе и уголок сада за раскрытыми сёдзи.
Он попытался подняться, но перед глазами тотчас мелькнул широкий белый рукав, прохладная ладонь коснулась лба, и мягкий, глубокий голос произнёс:
— Не так быстро, Хиромаса. Рано тебе ещё вставать.
— Сэймэй? — с облегчением пробормотал Хиромаса. — А... что я вообще здесь делаю?
— Выздоравливаешь, — Сэймэй обошёл его и сел с другой стороны. — Не беспокойся, всё уже позади.
Только сейчас Хиромаса заметил, что вокруг него, лежащего, растянута кольцом конопляная верёвка, образуя замкнутую границу, через которую Сэймэй не переступал. А ещё обнаружил, что весь изукрашен странными знаками — вычерченные тушью на коже, эти знаки покрывали его с ног до головы, сколько он мог разглядеть.
— Что со мной было? — с тревогой спросил он, косясь на свою разрисованную грудь.
— Порча, — отозвался колдун. — Кстати, твои слуги — удивительные остолопы, я даже не знал, что такие на свете бывают. Когда у крепкого молодого мужчины, сроду ничем не болевшего, вдруг начинается горячка — тут не надо большого ума, чтобы понять, что дело нечисто. А твой домоправитель потратил целый день, размышляя, какому храму лучше заказать молитвы о твоём выздоровлении да сколько мотков шёлка надобно им пожертвовать. — Сэймэй скривился, будто сунул в рот пяток маринованых слив разом. — Если бы я не заглянул тебя проведать, это могло бы очень плохо закончиться.
Хиромаса поёжился, ощутив неприятный холодок в животе. Его до сих пор подташнивало — то ли от слабости, то ли от увиденного в бреду.
— Спасибо, — выдохнул он.
— Не стоит, — улыбнулся Сэймэй. — Лучше скажи, кому это ты умудрился так досадить?
— Понятия не имею, — признался Хиромаса. — Я думал, у меня и врагов-то нет.
— Выходит, есть. — Колдун прищурился, рассеянно постукивая сложенным веером по колену. — Потому что порчу на тебя навели сильную и очень стойкую. Ты в последнее время не получал никаких подарков?
— Нет, а что?
— Судя по тому, как внезапно началась болезнь, порчу навели через какой-то предмет. Известный способ — зачаровать прядь волос, или обломок гребня, или что-то из одежды, а потом подбросить в дом жертвы. Я пытался выяснить у твоих слуг, не приносили ли в дом какие-нибудь новые вещи, но эти бараны не смогли ответить ничего вразумительного. А времени на поиски уже не осталось — ты был совсем плох... Так что я просто забрал тебя оттуда и привёз к себе. Здесь, под защитой священных знаков, тебе ничто не грозит.
— И долго мне тут лежать придётся? — Хиромаса с опаской потрогал нарисованные на груди символы.
— Недолго, — обрадовал его Сэймэй. — Видишь ли, если эта порча наведена по всем правилам, то она не отпустит тебя так просто.
— Что?
— Я имею в виду, что заклятая вещь непременно выберется из твоего дома и попытается проникнуть сюда, чтобы довершить начатое. Вот тут я её и поймаю.
— Вещь? — Хиромаса не удержался от глупого смешка — так живо ему представился взбесившийся пояс или сапог, который украдкой пробирается в дом и ползёт к хозяину, клацая отросшими зубами.
— Ну да. Не бойся, в этот круг она проникнуть не сможет, так что ты в полной безопасности. — Сэймэй чуть подвинулся, усевшись вполоборота к Хиромасе, чтобы видеть и его, и приоткрытый выход на энгаву. — А пока расскажи-ка, что тебе снилось.
Хиромаса предпочёл бы не говорить об этом и вообще забыть поскорее всё, что ему привиделось в горячечном бреду — но делать было нечего. Запинаясь и вздрагивая от неприятных воспоминаний, он пересказал, как умел, оба сна.
— Значит, ты не видел лица того человека с мечом? — уточнил Сэймэй, очень внимательно выслушав его.
— Я вообще не видел лиц, — Хиромаса напряг память. — А во втором сне было так темно, что я даже не мог разглядеть, что лежит рядом со мной. — От запоздалого отвращения его передёрнуло.
— Жаль, — вздохнул Сэймэй. — Если бы мы хоть знали, кто тебе снился, это могло бы многое прояснить...
Он вдруг умолк и замер, чуть повернувшись к выходу.
— А вот и твоя болезнь, — тихонько шепнул он, глядя куда-то вбок.
Хиромаса проследил за его взглядом — и сердце подпрыгнуло в груди: через порог переливалась живая блестящая струйка. Вот подняла треугольную головку, лизнула воздух раздвоенным языком — и потекла дальше, уверенно двигаясь в сторону защитного круга.
Змея!
Лежать на полу почти голым, глядя на подползающую гадину, было очень неуютно. Хиромаса едва подавил желание вскочить и убежать или хотя бы взять в руки что-нибудь тяжёлое. Он умоляюще посмотрел на Сэймэя, но тот строго качнул головой и шепнул: "Не двигайся!"
Змея приблизилась к защитной черте, уткнулась в верёвку и с шипением отдёрнула голову. Ещё раз попыталась пересечь границу круга — и снова отодвинулась, раздражённо извиваясь, словно верёвка обжигала её. Наконец, сдавшись, она поползла вдоль верёвки.
Всё это время Сэймэй сидел совершенно неподвижно, словно кот у мышиной норки. Дождавшись, когда змея приблизится к нему на расстояние вытянутой руки, он быстро схватил её за шею, сжав пальцами точно позади головы.
Змея яростно зашипела, забила хвостом, угрожающе выставила зубы, но колдун держал её крепко, и она никак не могла извернуться и вцепиться ему в палец. Не обращая внимания на шипение, он поднял её с пола. Оказавшись в воздухе, змея сразу присмирела и перестала извиваться, а когда Сэймэй легонько ударил её сложенным веером поперёк туловища — вытянулась и повисла, как простой шнурок. Да нет же, с удивлением понял Хиромаса, — это и был чёрный шнурок, примерно в полтора сяку длиной.
— Полюбуйся, — весело сказал Сэймэй, разглядывая свою добычу. — Вот эта верёвочка чуть не свела тебя в могилу.
"Верёвочка" была сплетена из чёрных волос, перевязанных красной шёлковой нитью. На том конце, где находилась змеиная голова, был прикреплён маленький клочок бумаги. Сэймэй развернул его и показал Хиромасе три знака, выписанных на бумаге аккуратным уставным почерком:
"Минамото-но Хиромаса".
— Заклято на имя, как я и думал, — сказал Сэймэй, отрывая бумажку. — Интересно. Очень интересно.
— Она больше не опасна? — жадно спросил Хиромаса.
Колдун улыбнулся.
— Нет. — Он небрежно махнул рукой, и окружавшая Хиромасу верёвка сама собой развязалась и смоталась в клубок. — Мои сикигами принесут тебе воду и одежду. Умывайся и отдыхай, а я попробую разобраться, что это за вещь и кто её тебе подбросил.
***
Поднявшись на следующее утро — вернее, уже заполдень — Хиромаса почувствовал себя здоровым и страшно голодным. К счастью, возле полога его уже ждал накрытый столик. Казалось, его внесли за минуту до пробуждения гостя — над чашками с рисом и жареной рыбой ещё поднимался пар, точно кушанья только что сняли с огня. Впрочем, в доме Сэймэя такие маленькие чудеса были в порядке вещей.
Кроме еды, на столике обнаружилась ещё одна чашка травяного отвара со знакомым горьковатым запахом. Хиромаса поморщился, но выпил и отвар — Сэймэю виднее.
Погода была солнечной, на небе — ни единой тучки, да и откуда бы взяться тучам в конце минидзуки, "безводного месяца"? В это время года дни были такими жаркими, что к часу Лошади вся жизнь в городе замирала. Зато вечером и после заката, когда зной отступал, люди с охотой навёрстывали упущенное, предаваясь гульбе и всевозможным удовольствиям.
К удивлению Хиромасы, Сэймэй не сидел на энгаве, любуясь расцветающими гортензиями, а ждал его в своих покоях. По теням на бледном лице колдуна и по воспалённому блеску его глаз Хиромаса понял, что его друг не ложился спать. На столе перед ним лежал лист бумаги, расписанный какими-то каракулями, а на листе — наполовину расплетённый волосяной шнурок.
— Ты что, всю ночь работал? — огорчился Хиромаса.
— Да как тут уснёшь? — Сэймэй махнул рукой, приглашая его сесть рядом. — Любопытную задачку ты мне подкинул! Например, вот эти волосы. Ты знаешь, что они принадлежат двум разным людям?
— Правда?
— Да, — Сэймэй указал на две отделённые пряди — покороче и подлиннее. — Одни волосы — мужские, другие — женские. Сначала я подумал, что мужские — это твои, ведь порча обретает особую силу, если использовать волосы или одежду жертвы. Но гадание показало, что эти волосы срезаны с головы мёртвого человека.
— О? — Хиромаса замер, сражённый внезапной догадкой. — Сэймэй, а не может ли это быть...
Оммёдзи кивнул.
— Да, я тоже так думаю. Волосы могут нести в себе многое, в том числе чувства и память. Сдаётся мне, ты видел во сне воспоминания того, кому эти волосы принадлежали.
— А женские волосы? Эта женщина — она жива?
— Да. И, поскольку мертвец едва ли мог сотворить такое колдовство, то мы приходим к естественному выводу, что именно женщина и замешана в этом деле. — Сэймэй лукаво покосился на друга. — Ну-ка, Хиромаса, признавайся, которую из своих любовниц ты оставил недовольной?
Хиромаса зарделся до мочек ушей.
— Всего-то одна и была, — смущённо буркнул он. — Да и с ней я уже расстался, потому что она другого стала привечать. Так что это ещё вопрос, кто тут обиженным вышел.
— Вот как? — Сэймэй иронично поднял брови. — И что, с тех пор ни одна дама не удостоилась твоего внимания? Кроме госпожи Хафутацу, разумеется?
— Ну... — Хиромасе мучительно захотелось прикрыться рукавом — щёки так и жгло от смущения. — Была ещё одна... Но это не в счёт, мы с ней только беседовали... и вообще... она мне безразлична, вот!
— О-о, — протянул Сэймэй. — Кажется, у нас тут сердечная тайна...
— Да нет же! Сэймэй, ну, перестань, я не хочу об этом вспоминать!
— А придётся. — Глаза колдуна холодно блеснули. — Хиромаса, это не шутки. Ты чудом остался жив. Если не хочешь, чтобы это повторилось — выкладывай всё начистоту, иначе я не смогу тебе помочь.
Хиромаса опустил глаза, устыдившись. И впрямь, нехорошо получается — Сэймэй его, считай, из могилы вытащил, а он тут секреты разводит.
— Ладно, — запинаясь, проговорил он. — Четыре дня назад Татибана позвал меня с собой на прогулку...
— Который Татибана? — прервал его Сэймэй.
— Татибана-но Ясухира, тюдзё Левой императорской охраны.
— Слышал о нём, но близко не знаком. Он твой друг?
Хиромаса пожал плечами.
— Да не то чтобы друг... скорее приятель. Понимаешь, ему уже тридцать пять, он опытный воин, а на меня смотрит, как на мальчишку, который в караульню зашёл поиграть. Если бы не моё происхождение, он бы меня и вовсе ни во что не ставил. Но, коль скоро я сын принца, он, конечно, выказывает мне уважение. Хотя, между нами говоря, грубиян первостатейный.
— Понятно. Значит, вы с ним отправились на прогулку...
— Да к женщинам мы отправились, — с тяжким вздохом признался Хиромаса. — К тем, что на лодках гуляк развлекают. У Ясухиры, при всём его блеске, вкусы простые, как дровосека. Знатные дамы ему, видишь ли, надоели, захотелось чего-то новенького. Он и меня уговорил — расписал в красках, какие там затейницы водятся... Уж не знаю, правда это или нет, потому что до этих женщин я так и не дошёл.
— Неужели? — Сэймэй между делом придвинул к себе стопку бумаги, вытащил верхний лист и взял со стола нож. — И как же это получилось?
— Да вот так. Шли мы вечером к речке — я, Ясухира и ещё трое его друзей. И вдруг слышу: из дома, мимо которого мы прошли, доносится чудесная музыка. Играют на кото, да так дивно — просто душа расцветает. Мог ли я утерпеть? Сказал приятелям, что догоню их чуть погодя, а сам пошёл посмотреть, кто это там играет...
...Калитка была приоткрыта, словно приглашала войти внутрь, в небольшой ухоженный сад. В сумерках он казался ещё меньше — крошечный цветник, два грушевых дерева и бамбук у ограды да несколько кустов жасмина. Всё здесь было неброско, но исполнено какой-то скромной прелести — и слегка замшелые камни на дорожке, и навес над колодцем, оплетенный вьюнком, и стрёкот сверчков в густой траве, сливающийся с нежным перезвоном струн.
Как железо, притянутое магнитом, Хиромаса медленно приблизился к крыльцу. Он знал эту песню — "В беседке стою..." — но ему редко доводилось слышать, чтобы кто-то исполнял её с таким же мастерством, как этот неизвестный музыкант.
Кото ещё звучал, когда дверь распахнулась и на крыльцо мелкими шажками вышла женщина в шёлковом платье. Опустившись на колени, она низко поклонилась Хиромасе.
— Пожалуйте, молодой господин, — проговорила она. На вид ей можно было дать лет сорок, а то и пятьдесят — с поправкой на белила, скрывающие морщины. — Госпожа просит вас не побрезговать нашим ничтожным кровом.
— Госпожа? — переспросил Хиромаса. — Так это она играет?
— Она живёт здесь одна, — глаза старухи хитро заблестели. — Увы, только струнам может она поведать свою печаль, только музыка служит ей утешением...
Хиромаса заколебался. Он уже догадался, что эта дама, среди ночи завлекающая прохожих звуками кото, торгует тем же товаром, что и весёлые девицы на лодках. Должно быть, она из хорошей семьи, потому и бережёт остатки гордости, не желает вконец опускаться. Одиноким женщинам трудно живётся без мужа, без покровителя и без средств к существованию. Но впустить к себе под полог кавалера, словно бы случайно зашедшего "переждать дождь", в обмен на какой-нибудь подарок — это почти в рамках приличий.
Хиромаса предпочитал тех женщин, которым нравился он сам, а не его богатство. Он считал, что покупная страсть не может сравниться с настоящим влечением, и приглашение Ясухиры принял неохотно, только чтобы не обидеть приятеля. Но здесь — здесь было нечто другое. Играющая на кото незнакомка разожгла его любопытство, и ему уже не хотелось уходить, не наслушавшись вдоволь. К тому же служанка, что так настойчиво зазывала его в дом, была чистоплотна на вид, красиво одета, набелена — значит, и её госпожа наверняка отличается изяществом и тонким вкусом. Если она к тому же и хороша собой, то провести с ней ночь будет гораздо приятнее, чем с развязными, неотёсанными, потными от жары и любовного угара "лодочницами".
— Твоя госпожа прекрасно играет на кото, — сказал он служанке. — Я хочу выразить ей своё восхищение.
— Прошу вас, молодой господин. — Старуха поднялась и засеменила в дом. Когда Хиромаса вошёл следом, она уже раздвинула двери в соседние покои, с очередным поклоном пригласила его войти и прикрыла створки за его спиной.
В комнате горел всего один светильник, да и тот едва разгонял сумрак, оттесняя тени к стенам. Странным образом это казалось уместным. Лишний свет только нарушил бы неяркое, вечернее очарование этой картины.
Семиструнный кото стоял возле ширмы, а та, что минуту назад извлекала из него такие изумительные звуки, замерла в поклоне перед гостем, изящно раскинув по полу пышные складки каракоромо. Длинные волосы сбегали по спине и падали волнами у колен — и впрямь, как говорится, "точно веер, колышущийся у краёв одежды". Верхнее платье было заткано узором из алых камелий, а остальные переливались более светлыми тонами, вплоть до маренового краешка нижнего хитоэ, прильнувшего к белоснежной коже.
Услышав его шаги, она медленно выпрямилась. Ей было лет двадцать пять, и её округлое лицо с высокими скулами и полными губами, с маленькой ямочкой в уголке рта являло собой образец зрелой, чувственной красоты. Она не поднимала глаз, так и не решившись прямо посмотреть на высокого гостя, а ресницы её были так густы, что взгляд терялся в их бархатной тени. При виде этой неподдельной робости Хиромаса вдруг ощутил глубокое сочувствие к ней. Природа щедро одарила эту женщину, но она же и сделала её заложницей собственной красоты — ведь любой мужчина, увидев её, будет думать только об одном... и уж точно не о музыке.
Он подобрал одну из подушек, во множестве разбросанных по полу, сел перед хозяйкой и поклонился в ответ.
— Вы прекрасно играли, — сказал он, стараясь придать голосу как можно больше теплоты. — Я хотел бы снова услышать ваш кото... и сыграть с вами вместе, если позволите.
— Как вам будет угодно, — проговорила она мягким голосом и придвинула к себе кото.
На этот раз она начала другую мелодию — "Моей любимой ворота". Играла она негромко, едва прикасаясь к струнам, и Хиромаса быстро поймал настроение песни. Со второй строфы он достал Хафутацу, с которой не расставался, и мягкое дыхание флейты вплелось в струнный перебор легко, словно так и было задумано.
— Ох, Хиромаса! — Сэймэй рассмеялся, чуть не выронив нож, которым резал бумагу. — Собраться к весёлым девицам, забрести по дороге в дом прекрасной незнакомки и провести с ней всю ночь, играя народные песенки, — поистине, только ты способен на это!
— А что такого? — насупился Хиромаса. — Ты бы слышал, как она играла! Девиц и во дворце, и в городе полным-полно, а таких музыкантов, может, всего десяток наберётся. И, потом, — тут он снова залился краской, — я ведь не всю ночь у неё сидел...
— Да ну? — удивился Сэймэй. — Неужели эта дама с камелиями прогнала тебя на ночь глядя?
— Нет, — вздохнул Хиромаса. — Я сам ушёл...
...Он потерял счёт времени. Кажется, масло успело выгореть один раз, и служанка пришла заправить светильник, потом принесла сакэ и какую-то скромную закуску из ранних овощей. Хиромаса едва притронулся к угощению. Чарующие звуки кото, долетающий из сада аромат жасмина, вкрадчивый полумрак и красота женских рук, порхающих над струнами — всё это опьяняло сильнее, чем вино или вид обнажённого тела. Он уже знал, чем закончится эта ночь — но любоваться женщиной на расстоянии, сдерживая медленно растущее желание, было не менее приятно, чем утолять это желание в её объятиях. Они почти не разговаривали, даже не назвались друг другу, и всё же Хиромаса чувствовал её ответное влечение, читал его в чуть учащённом дыхании, в движениях её рук, изливающих в струнных звуках страсть, о которой молчали уста... да, само молчание было частью этой волшебной игры — они предоставили музыке говорить за них.
Он уже сбросил верхнее платье и придвинулся к ней поближе, потихоньку гладя её волосы, но не желая спешить, чтобы не испортить этот восхитительный вечер ни одной фальшивой нотой. И тут от крыльца донёсся грубый пьяноватый голос:
— Эй, кто там в доме? Есть кто живой?
Хиромаса подскочил, как ужаленный, узнав Ясухиру. Женщина вздрогнула, струны прозвенели не в лад и умолкли. Снаружи хлопнула дверь, по половицам проскрипели тяжёлые шаги, и Ясухира ввалился в комнату — без шапки и кафтана, с растрёпанными волосами и наперекосяк завязанным поясом. Густой запах хмельного обгонял его на добрых десять шагов.
— Вот ты где! — заорал он с порога, тыча пальцем в Хиромасу. — Мы там с девочками пируем, а ты вот, значит, куда спрятался! Ишь, какую пташку себе отхватил!
Хозяйка побледнела и отшатнулась. Хиромаса, закипая, поднялся на ноги.
— Послушай, — тихо сказал он. — Я тебе не мешаю проводить ночь там, где тебе угодно, — и ты мне не мешай.
— А я разве мешаю? — Ясухира залился нетрезвым смехом. — Да я тебе помогать пришёл! Эй, красотка, как тебя зовут? Ты почему ещё одета, а?
Хиромаса шагнул прямо на него, вынуждая отступить назад.
— Ты пьян и ведёшь себя непристойно, — проговорил он сквозь зубы. — Удались, пожалуйста.
— Останьтесь, прошу вас. Я всегда рада гостям.
Не веря своим ушам, Хиромаса обернулся. Женщина в платье с камелиями улыбалась ласково и призывно. Мало того — она чуть сдвинула ворот с плеча, недвусмысленно обещая большее, и Ясухира, как ни пьян он был, тотчас уловил намёк. Шумно засопел, отодвинул застывшего Хиромасу и уселся рядом с хозяйкой, подгребая под себя подушки.
— Токо, — спокойно окликнула она служанку. — Принеси-ка ещё сакэ для господина да приготовь свежий рис с травами.
Ясухира хохотнул и облапил её. Она как будто напряглась, но тут же прильнула к нему самым непристойным образом, словно забыв о том, что они не одни.
Хиромаса стоял как вкопанный. Кровь бросилась ему в лицо, язык отнялся. Он не понимал, что происходит. Возможно ли такое — чтобы женщина, чья душа показалась ему такой утончённой и полной глубоких чувств, млела в объятиях этого пьяного мужлана, почти животного?
Оглушённый, он так и замер у порога, ненавидя себя за то, что наблюдает за этой дикой сценой, — и всё-таки не решаясь уйти. Лишь когда распалённый Ясухира, отпихнув ногой забытый кото, распахнул на женщине платье и принялся тискать её грудь, Хиромаса опомнился и выбежал прочь. Лицо у него горело, как кипятком ошпаренное, ярость разрывала грудь, и он мог только порадоваться, что при нём нет оружия — иначе жасминовым кустам было бы несдобровать.
Протяжный стон, донёсшийся из дома, подхлестнул его не хуже плети — он бросился бегом по садовой дорожке и выскочил на улицу, чуть не сорвав калитку с петель.
— И что дальше? — Сэймэй стряхнул с колен обрезки бумаги и вытащил из пачки новый листок. Весь столик перед ним был уже засыпан бумажными фигурками.
— Ничего, — сухо ответил Хиромаса. — Наутро какая-то женщина принесла мне одежду, которую я там забыл.
— Какая-то женщина? — со значением повторил Сэймэй.
— Мой паж, который взял у неё одежду, сказал, что это была старуха. Наверное, её служанка.
— А ты называл этой "госпоже Камелии" своё имя?
— Нет, — равнодушно проронил Хиромаса. — Но она, должно быть, как-то узнала его — иначе как ей было догадаться, кому вернуть одежду? Может, Ясухира ей сказал.
— Может быть, — задумчиво кивнул Сэймэй.
Хиромаса покусал губу.
— Слушай, ты думаешь, что она... Камелия навела на меня порчу?
— Вполне возможно, — Сэймэй собрал бумажные фигурки, завернул их в чистый лист и бережно спрятал за пазуху. Туда же отправился волосяной шнурок, обёрнутый другим листом. — Пока я могу сказать только одно: женщина, которой принадлежат эти волосы, одержима сильными страстями. Иными словами, она наманари — или вот-вот станет ею. В любом случае, нам стоит навестить твою Камелию, но прежде всего — Татибану.
При этих словах Хиромаса побледнел.
— Если это всё-таки она... Что, если Ясухира заболел так же, как я? Может, он уже умер?
Сэймэй быстро встал из-за стола.
— Идём, Хиромаса. Скорее.
***
Увидев Ясухиру живым и здоровым, Хиромаса против воли почувствовал облегчение. Как ни зол он был на приятеля за его безобразное поведение в тот вечер, но смерти ему не желал ни в коем случае. Ясухира же так искренне обрадовался ему, словно между ними и не было никакой размолвки.
— Я к тебе заходил, — признался он, поприветствовав гостей. — Извиниться хотел, да мне сказали, что ты нездоров. Ну, думаю, как-нибудь в другой раз. А что это ты расхворался в разгар лета, а?
— Это не болезнь , — хмуро отозвался Хиромаса, — а колдовство. Если бы не Сэймэй, меня бы уже, может, и на свете не было.
Ясухира даже отшатнулся.
— Не может быть! Какой злодей посмел бы поднять руку на государева родича?
— Уж не знаю какой, — покачал головой Хиромаса, — но таких кошмаров я и врагу бы не пожелал. Валяться в горячке и бредить о том, как тебе сжигают руки заживо... сам не верю, что не поседел от этого. Спасибо Сэймэю, без него я бы точно умер или спятил.
Заметно переменившись в лице, Ясухира поклонился колдуну.
— Вы настоящий чудотворец, господин Сэймэй.
— Ну, что вы, — скромно возразил оммёдзи. — А, кстати, вы сами в добром ли здравии изволите пребывать?
— Третьего дня голова болела, — хмыкнул Ясухира, — но только оттого, что выпил лишку. А так, слава богам, на здоровье не жалуюсь.
Он действительно казался воплощением телесной крепости — ростом на два пальца повыше Хиромасы, широкоплечий, с толстой, как у кабана, шеей и мощными руками. Среди всей дворцовой стражи ему немного нашлось бы равных в воинском умении. Хиромаса, например, не рискнул бы выйти против него с мечом. Вот с луком мог бы потягаться — на прошлогодних состязаниях он Ясухиру побил.
— Да, вот ещё, — Сэймэй деликатно понизил голос. — Господин Ясухира, четыре ночи назад вы посетили некую даму...
— Ну? — Ясухира слегка покраснел — видно, ему всё-таки было стыдно за тот случай.
— Вы, случайно, не называли ей имя Минамото-но Хиромасы?
— Нет, — отрезал Ясухира. — Я, может, иногда и бываю груб, но имена друзей попусту не треплю. Особенно с гулящими девками. У них языки длинные, только что скажи — и на следующий день во дворце уже все будут знать, в чьей постели ты ночевал. Не люблю сплетен.
Хиромаса промолчал. Он сам не мог понять, почему его так задело, что приятель назвал Камелию "гулящей девкой". Правда глаза колет?
— А что это она вас заинтересовала? — подозрительно спросил Ясухира. — А, господин Сэймэй? Или с ней что-то неладно?
Сэймэй поднял голову и улыбнулся.
— Ну что вы, господин Ясухира. Мне просто любопытно, вот и всё.
***
— Значит, это всё-таки она, — мрачно подытожил Хиромаса. На душе у него было тяжело.
Сэймэй только кивнул. Они стояли в том самом саду, куда Хиромаса вошёл четыре ночи назад, заворожённый звуками кото. Жасминовый цвет ещё не весь осыпался, и вьюнки над колодцем не успели завянуть, но дом был пуст, и ветер гонял по голым комнатам обрывки бумаги, солому и пыль — всё, что остаётся после поспешного переезда. Камелия исчезла, тем самым подтвердив свою вину.
— Думаю, соседей бесполезно расспрашивать, — пробормотал Хиромаса. — Едва ли она была так неосторожна, что выдала им своё новое убежище.
— Зачем беспокоить соседей? — усмехнулся Сэймэй, вытаскивая из-за пазухи бумажный свёрток. — У нас найдётся свой проводник.
— Её волосы? — догадался Хиромаса.
Сэймэй кивнул, быстро складывая из развёрнутого листа какую-то фигурку. Он перегибал бумагу в разных направлениях, вертел так и сяк — и очень скоро у него в руках оказалась небольшая белая птичка с раскинутыми крыльями. Отделив от шнура женские волосы, Сэймэй свернул их и вложил внутрь бумажной фигурки, а оставшуюся прядь спрятал в рукав. Хиромаса наблюдал за ним с немым восхищением. Сколько раз он был свидетелем того, как его друг играючи творит самые невероятные чудеса — и всё равно каждый раз его охватывал какой-то детский восторг.
Сэймэй щёлкнул пальцами, дунул бумажной птице в крылья, и с его руки вспорхнула небольшая чёрно-белая птаха — миякодори, речной куличок. Описав круг над головой оммёдзи, она чирикнула, отлетела немного в сторону и села на соседний забор, выжидательно глядя на людей.
— Идём, — махнул рукой Сэймэй.
Они пошли вслед за птицей. Миякодори перелетала с ограды на ограду, уверенно ведя их на юго-восток. Они миновали один квартал, другой, потом свернули на юг, спустившись разом до Седьмой линии. Вокруг потянулись старые, неухоженные дома за покосившимися заборами, заросшие и забитые мусором сточные канавы, чахлые от жары деревья — а солнце меж тем нырнуло за крыши, и на город опустились короткие летние сумерки.
— Зря мы не взяли огня, — вздохнул Хиромаса.
Сэймэй оглянулся по сторонам. В ближайшей ограде зияли дыры, доски торчали во все стороны, как гнилые зубы. Хиромаса понял его без слов, обернул ладонь рукавом, чтобы не занозить, и выдрал из ограды подходящую деревяшку. Сэймэй тронул её двумя сложенными пальцами — и трухлявая доска загорелась жарким пламенем, как хорошо просмоленный факел.
На следующем перекрёстке миякодори почему-то остановилась. Закружилась на одном месте, затрепыхала крыльями. Хиромаса обеспокоенно взглянул на Сэймэя, но спросить ни успел — их крылатый проводник вдруг пискнул и вспыхнул в воздухе. Горящий клубок обрушился к ногам колдуна, рассыпая искры.
Хиромаса отшатнулся. Сэймэй спокойно тронул носком башмака тлеющий бумажный комочек и покачал головой.
— Что? — не выдержал Хиромаса. — Что случилось?
— Волосы сгорели, — отозвался Сэймэй. — Дурной знак. Сердце этой женщины настолько переполнено страстями, что она может в любой момент обратиться в демона. С другой стороны, раз её страсти вызвали такой сильный отклик, значит, мы уже почти у цели. Во всяком случае, недалеко.
В его голосе не было особой надежды. Этот квартал был застроен куда теснее и беспорядочнее, чем северная половина города, и "недалеко" в этом месте могло означать несколько десятков дворов. Обыскать их в темноте и так было нелёгкой задачей, а уж когда времени в обрез...
— Если бы у нас была собака, — вздохнул Хиромаса, — может, она смогла бы взять след...
Сэймэй вдруг повернулся к нему.
— Потрясающе, Хиромаса! — воскликнул он, возбуждённо блестя глазами. — Ну ты и голова!
— В смысле? — не понял Хиромаса.
— Сейчас мы её найдём, — Сэймэй полез за пазуху, зашуршал бумагой. — Ну-ка, посвети мне...
Теряясь в догадках, Хиромаса послушно поднял факел повыше. Сэймэй вытащил чистый лист, приложил его к забору и, бормоча себе под нос непонятные слова, принялся кромсать его ножиком вдоль и поперёк. На землю посыпались обрезки, и раньше, чем можно было бы сосчитать до ста, он уже держал бумажную фигурку — совсем маленькую, с четырьмя лапами и длинным хвостом.
Сэймэй положил её на рукав, что-то шепнул, сложив пальцы колечком у губ, — и у него на руках шевельнулся комок чёрного меха, блестя яркими зелёными глазами.
— Кошка? — удивился Хиромаса. — А это, случайно, не та, что приходила ко мне?
— Она самая. — Сэймэй ласково почесал кошку между ушами, погладил вытянутым пальцем пушистое горлышко. — Одна из моих сикигами. Красавица, правда?
— Да, — нахмурился Хиромаса, — но какое отношение она имеет к нашим поискам?
— Ты же сам сказал, что для выслеживания человека нужна собака.
— Ну да...
— Вот поэтому я и призвал кошку.
Хиромаса застонал и закатил глаза.
— Сэймэй, имей совесть! У меня нет сейчас сил и желания разгадывать твои головоломки!
— Т-с-с, не горячись! — Сэймэй хитро улыбнулся и ссадил кошку на землю. — Подожди немного, сейчас всё поймёшь.
Кошка скользнула прочь из освещённого круга и исчезла из виду.
Время шло. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Хиромаса то и дело косился на Сэймэя, но тот спокойно ждал, поигрывая веером и не выказывая никакой тревоги.
А потом где-то в глубине квартала раздался собачий лай — громкий и злой, далеко разносящийся в ночной тишине. Сэймэй удовлетворённо кивнул и спрятал веер в рукав.
— Она там, — уверенно сказал он.
И зашагал в ту сторону, откуда слышался лай. Вконец запутавшийся Хиромаса пожал плечами и двинулся за ним.
Поплутав между тёмными оградами, они добрались до обветшалого, наполовину разваленного забора. Хиромаса прислушался к злобному ворчанию, что доносилось из-за ворот, и на всякий случай взял факел в левую руку, а правой вытащил меч. Собака собаке рознь — бывают и такие, что научены не лаять на чужаков, а сразу рвать горло. А если госпожа Камелия — колдунья, то почём знать, может, у неё двор сторожит не простой пёс, а инугами?
Открывать ворота не потребовалось — одна створка покосилась и висела на последней петле. Держа меч наготове, Хиромаса первым протиснулся внутрь, за ним последовал Сэймэй.
Когда-то здесь был небольшой сад, но за ним, видно, давно уже никто не ухаживал, и разросшиеся сорняки заглушили цветы, а плодовые деревья утонули в ползучих плетях кудзу. Кусты переплелись ветвями, образуя настоящую чащу, выложенную камнями дорожку затянуло мхом и осокой. По сравнению с этим местом даже полудикий сад Сэймэя показался бы образцом порядка и утончённого вкуса.
Из гущи зарослей навстречу незваным гостям поднялась чёрная тень. Пёс уже не ворчал, а молча выщерил клыки и присел, готовый к прыжку. Он был огромный, с белым пятном на груди, со стоячими, как у волка, ушами. При свете факела его глаза отблёскивали тусклым красным огнём.
Хиромаса отвёл меч для удара, настороженно следя за зверем, но Сэймэй опередил его. Беспечно шагнул навстречу скалящемуся псу и что-то бросил ему прямо в пасть.
Пёс щёлкнул зубами, сминая чёрную прядь волос, — и вдруг тонко заскулил и попятился, разом утратив грозный вид. С жалобным повизгиванием он заполз задом обратно в кусты и скрылся из виду.
Хиромаса покачал головой и вложил меч в ножны.
Они поднялись на скрипучее рассыпающееся крыльцо. Дверь была заперта, и Сэймэй осторожно, вежливо постучал.
— Кто там? — раздался изнутри женский голос. Голос Токо. Сэймэй показал Хиромасе глазами: ответь ей.
— Это я, — громко сказал Хиромаса. — Вы помните меня?
— Токо, открой, — донёсся изнутри другой голос, приглушённый бумажными стенками, и Хиромаса вздрогнул, узнав его. Наверняка и Камелия его узнала — но почему тогда велела впустить?
Сэймэй многозначительно улыбнулся и жестом призвал его к молчанию. Дверь открылась, и Токо поклонилась гостям.
— Мой друг, — скованно сказал Хиромаса, когда её вопросительный взгляд обратился на Сэймэя. — Позвольте войти?
Токо отодвинулась, пропуская их внутрь.
Этот дом был немного похож на тот, но заметно теснее и грязнее. Всего два шага — и перед ними открылись женские покои.
Она сидела у дальней стены, как и в тот вечер, и за её спиной стояла та же ширма, и платье на ней было то самое, с камелиями. И даже улыбка была прежней — ласковой, ничуть не настороженной.
— Это вы? — спокойно спросила она. Как будто не видела, кто вошёл.
Хиромаса шагнул вперёд.
— Это я, — повторил он. — Я, Минамото-но Хиромаса.
Она тихо вскрикнула и выронила веер. Белила, равно скрывающие и бледность страха, и румянец стыда, не позволяли читать по её лицу, но губы у неё задрожали.
— Вы? — растерянно повторила она. — Вы — Хиромаса?
— Вы ошиблись, — мягко сказал Сэймэй, подходя ближе. — Ваша слепота подвела вас.
— Слепота?
Теперь настал черёд Хиромасы бледнеть. Быстро опустившись на колени, забыв о приличиях, он схватил женщину за плечи и заглянул ей в лицо.
Её взгляд был пуст и неподвижен. Как будто она смотрела сквозь Хиромасу куда-то вдаль, за невидимый горизонт.
Хиромаса беспомощно опустил руки и сел. Камелия не пошевелилась.
— Твой приятель, Хиромаса, явно взволновался, когда ты обмолвился о том, что видел в бреду. — Сэймэй сел рядом, как ни в чём не бывало расправляя полы каригину. — Значит, это происшествие имеет какое-то отношение к нему. Он ведь участвовал в походе Садамори, я не ошибаюсь? Скорее всего, из вас двоих, посетивших её дом в ту ночь, порча предназначалась именно ему.
Хиромаса открыл рот — и промолчал. Теперь он понял, почему Сэймэй так и не назвал Ясухиру по имени.
— Предположим, вы не знали имени того, кого желали погубить. Но уж перепутать, кому принадлежит оставленная в вашем доме одежда, мог только человек с очень плохим зрением. Служанка видела Хиромасу мельком, в темноте, и не разглядела толком, во что он одет. Но с вами-то он сидел при свете и довольно долго.
Она молча наклонила голову.
— Должно быть, вы узнали второго гостя по голосу, — Сэймэй выжидательно взглянул на женщину, дождался второго кивка и продолжал: — Но вы не знали, что он уже был полураздет, когда ввалился к вам в комнату. А служанка только видела, как он уходил без верхнего платья — и подумала, что он оставил одежду у вас. Имени он вам не назвал, так что это была ваша единственная зацепка.
— Погоди, — Хиромаса помотал головой. — Как они нашли владельца одежды, если не знали моего имени?
— Я тоже не мог взять этого в толк, — кивнул Сэймэй, — но когда ты упомянул про собаку, меня осенило. Тогда-то я и понял, что надо искать двор, в котором есть собака — и призвал кошку, чтобы быстро обнаружить их. А тебя они нашли очень просто: дали псу понюхать твою одежду, и он привел служанку по следу к твоему дому. Служанка передала одежду твоему пажу и спросила у него, как зовут хозяина этого дома, думая, что это дом и одежда твоего приятеля. После этого ей достаточно было подбросить шнурок в сад или под ворота — эта вещь сама отыскала жертву.
Токо глухо вздохнула, но с места не сдвинулась.
— Зачем... — Хиромаса откашлялся — слова не шли в горло. — За что вы так ненавидите... этого человека?
Камелия выпрямилась.
— Я расскажу вам, — проговорила она мертвенно-спокойным голосом. — Я расскажу вам всё, и тогда судите меня, если хотите.
— Госпожа! — выдохнула Токо.
— Молчи, — оборвала её хозяйка. — После всего, что случилось... он имеет право знать.
Токо умолкла, кусая пальцы. Камелия повернулась к Хиромасе.
— Моё имя, — сказала она, — Окиё-но Цубаки.
Сэймэй тихо цокнул языком.
— Я подозревал что-то в этом роде, — пробормотал он. — Только не знал, кому из именно из выживших сторонников Масакадо понадобилась голова бывшего соратника Тайра-но Садамори.
И тут Хиромаса вспомнил — Окиё! Ну, конечно, Окиё-но Оокими, правая рука Тайра Масакадо, мятежника, объединившего под своей рукой Восемь земель! Один из ближайших сподвижников самозваного императора восточных провинций.
— Вы — дочь Оокими? — не удержавшись, вскричал он, но Цубаки покачала головой.
— Мой отец принадлежал к роду Окиё, но с Оокими его связывало лишь дальнее родство, и в мятеже он не участвовал. Однако расплата за грехи бывшего наместника Мусаси пала и на нас. Государь приказал уничтожить род изменника, и Садамори выполнил его приказ.
Она сложила руки на коленях. Голос её звучал ровно, глаза были сухи.
— Я родилась на свет зрячей. Я ещё немного помню, какого цвета небо, весенняя листва и пламя в очаге. Когда мне было три года, я упала с лестницы и сильно ударилась головой. Вот тогда для меня и наступила темнота. Мои родители любили меня, и после увечья их любовь не стала меньше. Я росла, окружённая заботой, и хотя слепота тяготила меня, но рядом всегда были руки, готовые меня подержать, и голоса, что рассказывали мне о мире, который я не могла увидеть. Потом я научилась играть на кото и бива, и музыка стала для меня вторым светом взамен утраченного. Не знаю, поймёте ли вы, как можно испытывать счастье, живя среди вечного мрака, — но, поверьте, я была счастлива в той жизни.
Мой брат Такаёси был на три года младше меня — словно боги решили вознаградить моих родителей за несчастье с дочерью, подарив им сына. Я любила его, как только может сестра любить брата. Его невозможно было не любить — такого смелого, такого доброго мальчика... Я учила его играть на всех инструментах, которыми владела сама, а он в шутку давал мне в руки свой деревянный меч и показывал, как правильно его держать. Потом мы стали реже видеться — он вырос, отец стал брать его с собой на охоту, но всегда, возвращаясь домой, Такаёси привозил мне цветы. Вот эти.
Она погладила себя по рукаву.
— Я не знала о том, что творилось на востоке. И когда в нашу усадьбу ворвались люди Садамори, я ничего не поняла. Подумала, что на нас напали разбойники — а потом услышала, как один из них кричит: "Смерть бунтовщикам!" Мы не были готовы к обороне. Отец успел собрать кого-то из воинов, но их смяли почти сразу. Наш дом подожгли, а тех, кто выбегал во двор, расстреливали из луков. Так погибла моя мать — хвала богам, подарившим ей лёгкую смерть. Такаёси чудом сумел вывести меня из горящего дома и спрятать в сарае. А потом...
Её голос чуть дрогнул — впервые с начала рассказа.
— Ему только месяц назад покрыли голову, но он уже считал себя воином. Я не смогла его остановить. Он пошёл в бой — защищать свой дом и мстить за родителей. А я... я услышала крики наших служанок, которых ловили воины Садамори, и поняла, что со мной сделают, если найдут. Мне некуда было бежать. Я услышала голос командира карательного отряда — он приказывал сжечь всё, что осталось, и добить пленников; и тогда я сама вышла из укрытия и бросилась ему в ноги, умоляя пощадить моего брата.
Мне часто говорили, что я красива, — и сначала мне показалось, что моя красота и мои мольбы тронули его. Он не отдал меня на расправу воинам, а взял в свой шатёр. Он обещал мне, что сохранит жизнь Такаёси и не прольёт ни капли его крови, — а потом три дня испытывал, как далеко простирается моя покорность.
Цубаки вскинула голову так, словно могла видеть Хиромасу, его пылающие щёки и расширенные глаза. Её лицо и сжатые губы были белыми, словно бумага.
— Хотите знать, что он делал со мной — и что я делала для него, чтобы спасти брата? Я могла бы вам рассказать, если ваши уши выдержат такую повесть. Я не забыла ни одной минуты из тех трёх дней.
— Не нужно, — через силу выдавил Хиромаса. — Я... я верю вам. Не мучайте себя, пожалуйста.
Плечи Цубаки поникли.
— Хорошо, — тихо продолжала она. — Из того, что вам пришлось увидеть во сне, вы можете догадаться, что было потом. Он не нарушил слова. Он отдал мне брата живым, не пролив ни капли его крови. Я слышала крики Такаёси, но не могла понять, что они с ним сделали... пока его не принесли ко мне. Его руки были сожжены до костей. Он дважды приходил в сознание, но только стонал и бился. А потом умер у меня на руках — от боли, не от ран.
Меня больше не трогали. Просто бросили там, на развалинах усадьбы, вместе с телом брата. К тому времени во всей округе не осталось ни одной живой души, ни одного несожжённого дома — вот как усердны воины Тайра... Урожай на полях был давно убран, и мне оставалось только умереть от голода.
Хиромаса вспомнил вторую часть сна — и ему захотелось зажать уши, чтобы не слышать того, что она сейчас скажет. Но по сравнению с тем, что выпало на её долю, это было бы слишком позорной трусостью.
— Я хотела умереть, — проговорила Цубаки. — И, право, зачем было жить, потеряв дом, семью и честь? Но я была последней из нашего рода, и я поняла, что если умру здесь, то некому будет отомстить тому человеку за содеянное. Умереть — это значило бы согласиться со всем, что он сделал со мной, с моим братом, с моими родителями. Я решила, что не сдамся. Я ела плоть моего убитого брата, чтобы выжить, — и с каждым проглоченным куском клялась, что не успокоюсь в жизни и в смерти, пока не положу голову этого человека на могилу моей семьи.
Наверное, боги услышали мою клятву, потому что на пожарище пришёл бродячий пёс. Я дала ему мяса, и он остался со мной и помог мне пережить холод, согревая меня своим теплом. А потом нас нашла Токо, моя кормилица — моя и Такаёси. В день нападения она была в деревне, у своей матери, и ей удалось скрыться от карателей. Она похоронила останки Такаёси и на спине унесла меня из руин.
Я не знала имени того, кому поклялась отомстить. Я знала его голос, его запах, все шрамы на его теле — всё, кроме имени и места, откуда он родом. Когда я выздоровела, мы с Токо и псом отправились на поиски — но трудно отыскать человека по таким приметам. Чтобы на что-то жить, я торговала собой, но старалась скрывать свой изъян, чтобы мой враг случайно не услышал о слепой юдзё и продолжал считать меня погибшей. Мы обошли все провинции к востоку отсюда и, наконец, добрались до столицы. Мне удалось скопить немного денег, чтобы привлечь более знатных и разборчивых любовников. Я исподволь расспрашивала их о том походе, надеясь узнать имя убийцы, — но, видно, он не снискал особой славы, потому что его никто не вспомнил.
Она перевела дыхание и медленно разжала стиснутые в кулаки руки.
— В тот вечер, когда вы пришли ко мне, господин Хиромаса... Поверьте, я всей душой желала, чтобы вы остались. Вы первый, с кем я говорила на одном языке, и первый, кого я сама хотела бы обнять. Но когда я услышала голос того человека... я думала, что сойду с ума. Этот голос звучал в моих кошмарах все семь лет, пока я разыскивала его. К счастью, он не узнал в разряженной и набелённой красотке ту заплаканную девочку, которую привёл в свой шатёр, — зато я его узнала. И едва ли вы представите, чего мне стоило снова разделить с ним ложе. Будь у меня яд под рукой, он не ушёл бы из моего дома живым. Но яда не было, а на кинжал я боялась полагаться — он был слишком силён и хорошо чуял опасность. Что ж, за время своих странствий я научилась многому, и в том числе — как погубить человека без яда и стали. Я сохранила прядь волос Такаёси и знала, что нужно делать, чтобы заставить палача пережить все муки его жертв. Мне надо было только узнать имя... и я ошиблась.
***
Долгое время после того, как она закончила свой рассказ, в комнате стояла тишина. Токо давилась беззвучными рыданиями, Хиромаса просто не находил слов, а Сэймэй... кто из людей может похвалиться, что разгадал молчание Сэймэя?
— Господин Хиромаса, — снова заговорила Цубаки. — Что вы теперь намерены делать?
Хиромаса сглотнул колючий комок в горле.
— Я не могу вас осуждать, госпожа Цубаки, — хрипло сказал он. — Наверное, потому что я видел часть того, что вас пришлось пережить. Небольшую часть... но я всё равно не могу. Мне очень жаль вас. Я не могу ничего исправить, но... мне, правда, очень жаль...
Он сбился и умолк. Цубаки прерывисто вздохнула — словно всё это время задерживала дыхание и только теперь позволила себе расслабиться.
— Вы знаете его имя, — это не был вопрос. — Вы ведь знаете его имя, господин Хиромаса...
Он молчал, догадываясь, что за этим последует.
— Назовите мне его! — яростно потребовала Цубаки. — Кто этот человек? Кто он?
Хиромаса стиснул зубы.
Он сам не мог понять, что с ним творится. Его трясло, когда он слушал исповедь Цубаки. Ему почти становилось дурно, когда он понимал: да, это не ложь, Ясухира вполне мог совершить нечто подобное — только, конечно, не в благонравной столице, а там, в далёких восточных землях, где война и вседозволенность ходят рука об руку. Но негодовать, слушая рассказ о злодеяниях Ясухиры, осуждать его всей душой, испытывать к нему омерзение — между всем этим и тем, чтобы предать его в руки мстительницы, была некая разница. Такая же разница, как между вынесением приговора — и совершением казни.
На какой-то миг он пожелал, страстно пожелал, чтобы Сэймэй назвал это имя — и избавил его от выбора. Но колдун молчал, и Хиромаса вдруг понял — именно этого Сэймэй и ждёт от него. Ждёт, что он примет решение сам.
— Госпожа Цубаки, — в отчаянии выдохнул он, — не просите меня об этом.
Она покачнулась, как от удара.
— Я не знаю, хотят ли ваши родители и ваш брат... хотят ли их души, чтобы вы положили жизнь ради мести. Мне говорили, что в Чистой земле все в конце концов обретают покой... а убийца всё равно не минует ада, при жизни или после смерти. Госпожа Цубаки, прошу вас, оставьте возмездие небесам и позвольте мне позаботиться о вас. Я не самый высокопоставленный человек при дворе, но я смогу защитить вас и сделать так, чтобы вы больше ни в чём не нуждались. Вы, ваша служанка и даже ваш пёс. Боги сохранили вам жизнь — так почему бы вам не жить? Ради музыки... и ради тех, кто вам дорог...
Он хотел сказать "ради любви" — но не решился произнести это вслух.
— Вы сказали, что жалеете меня, — медленно произнесла Цубаки. — Но моего палача вы почему-то жалеете больше. Вы самый жалкий лицемер из всех, кого я знала.
Хиромаса вспыхнул бы, если бы был способен покраснеть ещё сильнее, а она неумолимо продолжала:
— У вас доброе сердце, это видно по вашим речам. Но почему вы расточаете вашу доброту на убийц, а не на жертв? Может быть, этот человек — ваш друг, которого вы готовы защищать, несмотря ни на что? Если это так, тогда убейте меня, потому что я не остановлюсь, пока дышу. Будьте последовательны, господин Хиромаса. Убейте меня или назовите мне его имя — но только выберите, на чьей вы стороне.
— Простите, — прошептал Хиромаса. Он не мог поднять глаз, хотя и знал, что она не видит его.
— Тогда уйдите. — Её голос тоже звучал сдавленно. — Уйдите, иначе я сама вас убью.
— Я...
— Идём, Хиромаса, — сказал Сэймэй.
Он заговорил в первый раз с тех пор, как выслушал историю Цубаки — и оттого его слова прозвучали как удар гонга в ночной тишине.
Оммёдзи поклонился поочерёдно Цубаки и Токо — и поднялся на ноги. Хиромаса сделал то же самое, и они вышли.
Размер: 23 700 слов
Пейринг/Персонажи: Абэ-но Сэймэй|Минамото-но Хиромаса, Минамото-но Ёсицунэ/Сидзука-годзэн, Сато Таданобу, Мусасибо Бэнкэй, Кудзуноха и другие
Категория: джен, гет, броманс
Жанр: AU, мистика, приключения, ангст, херт-комфорт
Рейтинг: PG-13
Предупреждения: насилие, смерть персонажа
От автора: Написано для команды Абэ-но Сэймэя на ФБ-2016. Идея родилась после прочтения краткого содержания (увы, другого источника информации не нашлось) пьесы "Ёсицунэ и тысяча вишневых деревьев". История лиса-оборотня, охотящегося за волшебным барабанчиком, выглядела очень многообещающе, но в процессе проработки материала изначальный замысел развернулся почти на сто восемьдесят градусов.
А ещё это второй из моих текстов, к которому есть иллюстрация. Замечательный художник Ивандамарья Яиц нарисовала мне Сэймэя, творящего обряд очищения!

На втором подъёме Таданобу начал сдавать. Само собой, он не жаловался — только крепче стискивал зубы да с каждым шагом тяжелее опирался на копьё, что служило ему костылём. Но к тому времени, как они выбрались со склона на ровное место, лицо воина стало уже совершенно серым, и дыхание ходило в горле со свистом, как лезвие по точильному камню.
Сидзука знала, что он не попросит отдыха, пока не упадёт без сил, а когда упадёт — будет уже поздно. Поэтому она остановилась сама и, придержав Таданобу за рукав, указала на редкие красные пятнышки, оставшиеся за ним на тропе.
— Боюсь, что враги быстро найдут нас по этому следу, — сказала она. — Присядьте здесь под деревом, я стяну повязки потуже.
Таданобу ничего не сказал в ответ, но подковылял к дереву и неуклюже опустился на узловатое сплетение корней, наполовину вымытых дождями и снегом из каменистой почвы. Сидзука сбросила наземь котомку и присела рядом у его ног. Быстро распустила завязки и сняла набедренник, чтобы взглянуть на рану. Так и есть — полоски ткани, которыми она перевязала ногу Таданобу, намокли и ослабли, и штанина до колена пропиталась кровью.
Перетянув рану заново, она приладила набедренник на место и принялась осматривать руку Таданобу. Особой нужды в этом не было: стрела, пронзившая кольчужный рукав, ушибла плечо и вбила под кожу концы разорванных стальных звеньев, но глубоко в плоть не вошла. Рана кровоточила не так сильно, да и ходить не мешала, но Сидзука всё же проверила повязки, давая Таданобу ещё немного времени на передышку. Совсем немного — потому что они не могли себе позволить долгого отдыха. Один Будда знал, насколько им удалось опередить погоню и много ли ещё предстоит пройти до конца дня. К закату они должны были найти хоть какое-нибудь людское жильё и либо посулами, либо угрозами напроситься на ночлег. Без помощи и укрытия на ночь у раненого мало надежды выжить — это они понимали оба.
Для виду она поправила повязку на руке Таданобу и опустила наплечник на место. В который раз подумалось, что ему было бы намного легче идти без всей этой тяжести, без наплечников и панциря из дублёной кожи, без латных набедренников и рукавов, плетёных из железной проволоки, — но Сидзука знала, что воин ни за что не расстанется с доспехами. Как не бросит и второй меч, подарок господина Ёсицунэ. Как и сама она, даже умирая от усталости, не бросила бы драгоценный барабанчик-цудзуми, который господин вручил ей на прощание.
А между тем не было похоже, чтобы отдых сильно подбодрил самурая. Поднимаясь, он изо всех сил навалился на копьё, и рука, сжимавшая древко, заметно дрожала. Сидзука подставила было плечо, но Таданобу молча мотнул головой и выпрямился сам — лишь лицо непроизвольно дёрнулось, когда он перенёс вес на раненую ногу.
Он осилил целых три или четыре шага, прежде чем Сидзука обогнала его и встала на пути.
— Если вы стыдитесь показать слабость перед женщиной, — упрямо проговорила она, — то давайте забудем, что я женщина. На мне мужская одежда, я ношу оружие, как вы, и мы служим одному господину. Будь я отроком из его дома — разве вы отказались бы от моей помощи?
Таданобу и на этот раз ничего не сказал — но, помедлив, всё-таки переложил копьё в левую руку и не воспротивился, когда Сидзука забросила его правую руку себе на плечи. И только через десяток шагов разлепил губы:
— Простите.
— Не стоит, — выдохнула она. Идти, удерживая на себе даже часть веса рослого мужчины в доспехах, было нелегко, и речь против воли выходила отрывистой. — Это я должна просить прощения. Без меня вы не оказались бы здесь. И не попали бы в засаду.
— Я о другом. — Таданобу тоже с трудом переводил дыхание — ронял слова порознь, с долгими промежутками. — Я был среди тех, кто... советовал господину отослать вас. Мне казалось, так будет лучше для всех. Я думал, ваш ребёнок... может быть, вам удастся его сберечь. Ведь удалось же матушке господина... спасти своих детей. Вдруг вам повезёт... и род господина не прервётся...
Сидзука крепко закусила губу, чтобы не застонать от отчаяния. Да, госпожа Токива спасла своих детей. Выкупила их жизни своим телом, разделив ложе с убийцей мужа. Но Повелитель Камакуры тоже знает эту историю и именно поэтому не повторит ошибки Киёмори, не оставит в живых потомков брата, ставшего врагом. И ни унижением, ни позором Сидзука не вымолит у него пощады для нерождённого ребёнка Куро Ёсицунэ.
Остаться рядом — смерть, и уйти — тоже смерть. Так ей казалось, когда она, слепая от слёз и полумёртвая от горя, уходила из монастыря Дзао, повинуясь приказу любимого — возвращаться в столицу. Но опасность пришла не от воинов сёгуна, а от тех, кого уже не считали угрозой: от выживших вассалов Тайра, устроивших засаду на перевале.
— Я поклялся доставить вас домой живой и невредимой, — Таданобу оступился на покатом камне и навалился ей на плечо, явственно скрипнув зубами. — А теперь не знаю, смогу ли хотя бы вернуть вас к господину.
— Если бы не вы, я уже была бы мертва. — Сидзука ухватилась свободной рукой за пояс самурая, помогая ему удержать равновесие. — А пока мы оба живы, помолимся, чтобы нам благополучно добраться до Срединной обители.
Тропа перерезала отлогое плечо горы и пошла вниз, но легче не стало. Таданобу упирался концом копья в каменистые наплывы, чтобы удержаться на крутом спуске, но его всё равно шатало, как дерево в бурю, и у Сидзуки поминутно обрывалось сердце. Вот-вот подведёт, оскользнётся нога в мокром от крови сапоге — и Таданобу покатится вниз, против воли увлекая Сидзуку за собой. Страшно умереть в диком месте, без поминальной молитвы и даже без могилы, где одни только стервятники приберут остывшие тела...
Таданобу остановился так резко, что Сидзука от неожиданности вцепилась в него обеими руками. Но он не собирался падать — наоборот, выпрямился и указал копьём куда-то вперёд и вниз.
— Боги услышали нас, — через силу выдохнул он.
Сидзука проследила его взгляд. Склон горы, уже одетый сумерками, тонул в буйных зарослях бамбука и молодых криптомерий. Тропа уходила в эти заросли и терялась без следа. Но там, дальше, среди густой зелени виднелось более светлое пятно — крытая соломой кровля. И в вечереющее небо, почти невидимый на таком расстоянии, тянулся прозрачный столбик дыма.
Как оно всегда и бывает, путь до желанного крова оказался дальше и труднее, чем мерещилось при взгляде сверху. К тому часу, как они добрались до рощи, солнце уже село, и пришлось брести через заросли впотьмах, кланяясь острым веткам и спотыкаясь о корни. Когда вконец измученный Таданобу наткнулся на поваленный ствол и упал, Сидзуке показалось, что он больше уже не поднимется. Но он встал, хотя из-под сбившихся повязок снова потекла кровь, и прошёл последние две или три сотни шагов, отделявшие их от цели.
Это была не одна, а целых три хижины, построенные на небольшой вырубке возле ручья. Когда-то здесь расчистили поляну и из нарубленного дерева возвели три крепкие кельи, но это, как видно, случилось уже давно. С тех пор молодая поросль затянула вырубку и подступила вплотную к постройкам, а сами кельи осели, почернели и обросли мхом. Похоже, у тех, кто проходил аскезу в этой глуши, уже не хватало сил чинить и подновлять своё жильё — либо сами отшельники уже отправились в Западный рай, а в их кельях поселился кто-то менее праведный и более ленивый.
"Только бы не разбойники", — успела подумать Сидзука, когда покосившаяся дверь ближайшей хижины отворилась, и наружу вышел монах с горящей масляной плошкой в руке.
Не каждый, кто носит рясу и оплечье, безобиден. В нынешние беззаконные времена монастырская братия частенько наводила на мирян побольше страху, чем кичливые воины Тайра или отчаянные сорвиголовы Минамото. Да что там долго вспоминать — тот же Бэнкэй, несмотря на монашеское звание, отличался крутым нравом и нечеловеческой силой, а уж в драке, да с нагинатой в руках, один стоил целого отряда. Повстречать такого — всё равно что на тигра в чаще наткнуться.
Но здешний насельник не тянул даже на четверть Бэнкэя. Тощий, как жердь, и древний на вид, как эта гора, он кутался в обтрёпанный чёрный балахон, вылинявший от долгой носки. Его безволосая голова по-черепашьи выступала вперёд, словно тонкой жилистой шее было не под силу удержать её вес. Морщинистому лицу отнюдь не добавляли красоты старые рубцы от оспы — две заросшие ямки над бровями, две на щеках, одна на переносице и ещё одна прямо в середине лба. Глаза монаха, тусклые и белёсые, казались словно бы затянутыми бельмами; в первое мгновение Сидзука подумала, что он слеп — но нет, взглянув на неё, монах моргнул сухими полупрозрачными веками и прищурился, поднимая огонёк повыше.
— Да славится имя Будды, — сказала Сидзука. Ей, умелой певице, не составило труда подделать голос под более низкий, юношеский, а хрипотца от усталости и сорванного дыхания лишь добавила достоверности. — Приюти нас на ночь, святой инок.
Мутновато-светлые глаза отшельника оглядели с ног до головы сначала её, затем Таданобу. Задержались на набедреннике, из-под которого свисал конец окровавленной тряпки, и Сидзука поспешила объяснить:
— На нас напали разбойники в горах. Прости, что потревожили твоё уединение, но моему старшему брату нужна помощь.
Отшельник склонил голову и чуть посторонился, освобождая вход в келью.
— Входите, господин воин, — проговорил он медленным скрипучим голосом, словно заржавевшим от долгого молчания. — Моё ложе холодно и жёстко, но всё же лучше, чем эти камни. Я осмотрю ваши раны. А вы, юный господин, ступайте в ту хижину да раздуйте очаг. Мне нужен кипяток для заваривания целебных трав, а вам — плошка горячего проса.
Сидзука незаметно перевела дыхание. Похоже, этот монах не водил дружбы с побеждёнными Тайра, да и вообще мало заботился о делах внешнего мира — иначе не преминул бы хоть спросить, чью сторону держат два вооружённых гостя, заявившиеся к нему на ночь глядя.
Таданобу, собрав последние силы, прошёл в хижину и опустился на травяную циновку, служившую монаху постелью. Отшельник проковылял следом, пристроил светильник на полу, сел подле раненого и спокойно принялся развязывать шнуры его доспехов.
В дальней хижине было темно и дымно, в очаге сквозь слой пепла мерцали красноватым жаром угли. Сидзука сбросила котомку, отыскала у очага старый котелок и вышла наружу. На всякий случай заглянула через приоткрытую дверь в келью монаха, но опасения были напрасны: Таданобу сидел, привалившись к стене, и лицо у него было хоть и бледное, но спокойное. Отшельник разматывал повязки на бедре воина; завидев Сидзуку, он недовольно мотнул головой: мол, а воду кто греть будет?
Деревянное ведёрко с водой обнаружилось здесь же, возле кучи хвороста, наваленной снаружи у стены. Сидзука наполнила котелок, ухватила веток и сучьев, сколько поместилось в охапку, и поспешила обратно в хижину с очагом. Разворошила угли, выгребла жар наружу, подбросила хвороста. Взметнулось пламя, озаряя низкие стропила и тёмную изнанку крыши, обросшие копотью дощатые стены, висящие по углам связки трав и высушенные тыквы-горлянки; потянуло блаженным, расслабляющим теплом, и глаза сразу же начали слипаться. Сидзука поставила котелок на огонь и протянула руки над очагом, торопясь согреться. И ещё надо было найти горшок и отнести углей в келью, ведь Таданобу тоже замёрз...
Смутная, неопределённая ещё тревога кольнула иголочкой внутри. И впрямь, зачем было вести Таданобу в другую хижину, когда есть эта? Даже если сам святой отшельник ради умерщвления плоти предпочитает спать в холодном доме, осматривать раненого разумнее было бы у очага, в тепле и при свете. Тем более, что травы-то он хранит здесь...
Сидзука огляделась внимательнее — и заметила в дальнем углу, куда едва достигал свет, пустое место, присыпанное пылью и трухой. Догадка обожгла, как стрельнувший в пламени уголёк: здесь раньше была постель. И отсюда её вытащили, видимо, в спешке — земляной пол до самого порога усеян выпавшими соломинками. И перенесли в другую хижину... для чего?
Чтобы был повод отвести туда раненого, вот для чего. Чтобы разделить их с Таданобу, оставить в разных местах поодиночке...
Несмотря на весёлый треск огня, её снова бросило в холод и дрожь. Нащупывая немеющей рукой меч за поясом, Сидзука метнулась к двери.
Занавеска, прикрывающая дверной проём, отдёрнулась прямо перед ней. Монах стоял на пороге — сутулый, тощий, такой безобидный с виду, что на мгновение все её страхи показались Сидзуке нелепой выдумкой. Нашла, кого бояться — полуслепого старца, едва таскающего ноги...
— Сам догадался? — проскрипел монах, глядя на Сидзуку — точнее, на её меч, уже на пол-ладони выдвинутый из ножен. — Умный мальчик.
И с прытью, которой никак нельзя было ожидать от такого дряхлого существа, бросился вперёд, вытягивая длинные костлявые руки.
Воин — настоящий воин, а не переодетая сирабёси — использовал бы этот момент для встречного удара, чтобы противник сам напоролся на лезвие. Но Сидзука не была воином, с детства натасканным убивать, и выучка танцовщицы всё решила за неё. Вместо того, чтобы прыгнуть навстречу, она увернулась вбок, избегая столкновения, так что монах проскочил мимо неё в глубину хижины. И только потом она вспомнила об оружии в руках — и наотмашь полоснула мечом по открытой спине старикашки.
Клинок отскочил от тела монаха, как топор в руках неопытного дровосека отскакивает от упругого бамбукового ствола. Чёрная ткань рясы лопнула под ударом от плеча до поясницы, и сквозь прореху выглянула не кожа, а жёсткая бурая шерсть, наподобие медвежьей.
Сидзука вдохнула — и не смогла выдохнуть, крик застрял в горле смёрзшимся ледяным комком. Монах... нет, это существо уже никак нельзя было назвать ни монахом, ни хотя бы человеком. Оно зашевелилось, словно разбухая внутри одежды, ряса затрещала по швам, и из разрывов одна за другой полезли длинные суставчатые лапы, обросшие у основания той же бурой шерстью. Шея втянулась в плечи, спина выпятилась тёмным мохнатым горбом, кисти рук вытянулись, превращаясь в острые костяные когти. Только голова ещё оставалась человеческой — но лицо уже менялось, жутко и неузнаваемо. Лоб сплющился, рот растянулся в огромную щель, а сухие ямы оспенных шрамов вдруг задёргались, вспучились волдырями — и с чмоканьем раскрылись, превращаясь в шесть чёрных блестящих глаз.
Огромный паук неторопливо, как в кошмарном сне, повернулся к ней, вслепую переступая в темноте огромными лапами. Зазвенела и посыпалась с полок какая-то утварь, с треском ударилась об пол тыквенная бутылка, рассыпая сухое просо.
Сидзука попятилась. Колени вмиг стали ватными, меч повис в опустившейся руке.
...Когда у перевала из-за деревьев вдруг ударили стрелы, это тоже было страшно, но тогда между ней и опасностью стоял надёжный, как скала, Таданобу. И противниками тогда были люди — жестокие, злые, но всего лишь люди. Сейчас в глаза Сидзуке заглядывала сама смерть. А Таданобу, её единственный защитник, скорее всего, лежал бездыханным там, где она так беспечно оставила его наедине с чудовищем.
Она осела на пол, сжалась в комок, неосознанно прикрывая руками живот. Бежать было некуда: передние лапы паука уже упирались в стену над её головой.
Что-то ещё упало и покатилось в глубине хижины, где она оставила свои вещи. Стукнуло легко и гулко, блеснул на свету золотой узор на мешочке из дорогой парчи...
Хацунэ!
"Когда возьмёшь в руки этот барабанчик — думай, что я с тобой..."
Паук замер. Его плоская, утопленная в туловище голова не поворачивалась, и он повернулся всей своей бочкообразной тушей, неуклюже растопырив мохнатые ноги. Все восемь глаз уставились на парчовый мешок, выпавший из забытой на полу котомки.
"Когда ударишь в него, чтобы развеять грусть, — думай, что это моё сердце бьётся рядом с твоим..."
С глухим шипением паук подцепил мешок когтем и потянул к себе. Но Сидзука уже была на ногах.
Если она позволит убить себя здесь, то никогда больше не увидит господина Ёсицунэ. И ребёнок, которого господин так хотел сберечь, умрёт, не появившись на свет. Этой мысли оказалось достаточно, чтобы скрутить в себе страх и подобрать оброненный меч.
Паук стоял боком, до глаз было не достать, на раздутом брюхе сквозь торчащую пучками шерсть виднелась блестящая шкура, наверняка твёрдая, как орех. Зато мохнатая, несоразмерно тонкая лапа была совсем близко, и Сидзука рубанула по выгнутому вверх суставу, вложив все оставшиеся силы в этот удар и в короткий яростный крик.
Лапа треснула и переломилась под лезвием, будто сухая ветка. Паук вскинулся, затопал на месте, поджимая обрубок к брюху. Брошенный мешок отлетел к очагу, упал среди рассыпанных углей; метнувшись вдоль стены, Сидзука успела подхватить его, прежде чем огонь коснулся ткани.
"Его имя — Хацунэ, Изначальный Звук. Второго такого нет во всей Поднебесной. Я получил его из рук государя-инока, как величайшую награду, и собирался хранить до последнего часа. Теперь же, когда смерть стоит за моим плечом, я отдаю его тебе, на память о нашем счастье".
Выпавшие из очага угли чадили на сыром земляном полу, хижину заволокло дымом. Сжимая левой рукой мешок с драгоценным подарком и вслепую размахивая мечом, Сидзука рванулась к двери. Вынырнувшая из темноты лапа ударила её по ногам — наотмашь, с хлёсткой силой бамбукового удилища. Сидзука споткнулась и полетела на пол, больно ушибив локоть, и тут же вторая лапа обрушилась ей на спину, прижимая к земле. От двойного удара отнялось дыхание, перед глазами поплыли чёрные пятна; Сидзука забилась, пытаясь втянуть хоть немного воздуха в лёгкие — и тут что-то холодное и острое вонзилось ей в спину чуть ниже шеи, под сбившийся ворот суйкана.
— Таданобу! — голос сорвался, заглох стоном в охрипшем горле. В этот миг она не помнила, что его нет рядом; всё, что она чувствовала, был тошнотворный страх, и отчаяние, и боль, растекающаяся кипятком от затылка к сердцу, гасящая сознание.
Последним усилием она стиснула пальцы на парчовом мешке, цепляясь за него, как за священный оберег. Потом боль исчезла, и Сидзука провалилась в какую-то тёмную яму без стен и дна...
— ...Госпожа Сидзука, госпожа Сидзука!
Кто-то звал её, тряс за плечи, не грубо, но настойчиво. Хрипловатый голос показался было чужим; Сидзука приоткрыла глаза, щурясь от бьющего в лицо света, и чуть не заплакала от облегчения — над ней склонялся Таданобу, с тревогой заглядывая ей в лицо.
— Госпожа Сидзука, вы не ранены?
— Таданобу, — прошептала она. Во рту было сухо, словно она песка наелась.
— Я, госпожа. Вот так, осторожнее...
Цепляясь за его рукав, она попыталась сесть. Получилось не сразу: голова кружилась немилосердно, спину ломило, как после тысячи поклонов перед ликом Царя-Дракона. Сидзука коснулась того места между шеей и лопаткой, где болело сильнее всего — и обнаружила, что ткань суйкана влажна от крови.
— Мне нет прощения, — Таданобу склонил голову. — Стыд и позор, что вы пострадали, находясь под моей защитой.
— Оборотень... — прошептала Сидзука. — Здесь был...
— Ничего не бойтесь, госпожа. Оборотень мёртв.
Сидзука всхлипнула, не удержавшись. В голове не укладывалось, что они оба живы, и, если бы не боль от ран и ушибов — впору было поверить, что чудесное спасение привиделось ей в предсмертном бреду.
Но рука Таданобу, поддерживающая её за плечо, была тёплой и живой. И свет огня в очаге был настоящим. И мокрые пятна на земле, тянущиеся неровной дорожкой за порог.
— Я убрал его с глаз долой, — Таданобу проследил направление её взгляда. — Хорошо, что после смерти он превратился обратно в старика, а то не пролез бы в дверь, пожалуй. А лихо вы его отделали, госпожа, — не всякий воин так сумел бы.
Сидзука покачала головой и сглотнула — тошнота сжала нутро. Таданобу встревоженно наклонился к ней.
— Он вас ранил? Куда?
— Ничего, — Сидзука вдохнула поглубже и с облегчением поняла, что живот не болит. Значит — обошлось. Она боялась только за ребёнка, всё прочее не стоило внимания. Да и стыдно было бы пересчитывать свои синяки и царапины перед лицом Таданобу, который в одиночку, раненый, сразил чудовище и спас ей жизнь.
Самурай с беспокойством следил за ней.
— Если вы в силах идти, госпожа, то с рассветом нам надобно уходить. Это дурное место, хоть здесь и жили святые люди.
— Если все здешние монахи были похожи на этого, — пробормотала Сидзука, косясь на кровавые пятна на полу, — то неудивительно, что святости в этом месте не прибавилось.
— Нет, монах-то здесь был настоящий, — усмехнулся Таданобу. — Пока вы без памяти лежали, я в третью хижину заглянул — там он и оказался. Без рясы, весь в паутине и спит, как убитый. По всему видать, оборотень его усыпил, как вас, и надел его одежду.
— Зачем оборотню усыплять людей?
— Откуда мне знать? — Таданобу пожал плечами. — Может, для того, чтобы добыча не портилась сразу? Простите, госпожа...
Сидзука опять сглотнула. А ведь, не приди на помощь Таданобу — лежать бы и ей в паучьих тенётах, опутанной по рукам и ногам, скованной мёртвым сном.
— Может, оно и к лучшему, что монах спит, — помолчав, снова заговорил Таданобу. — Если уйдём отсюда до его пробуждения, никто и не узнает, что мы здесь были. Всё меньше следов для Хэйке, если они гонятся за нами. Так как, идти сможете?
— Я-то смогу, — Сидзука ощупала сквозь штанину ушибленную голень, убеждаясь, что кости целы. — А ваши раны как же?
Таданобу отвёл глаза.
— Обо мне не тревожьтесь. Я отдохнул, этого довольно. Да и у монаха были кое-какие лекарства, так что я уже и повязки обновил. И проса сварил — поешьте, если голодны. Чем раньше тронемся в путь, тем лучше.
— Хорошо, — Сидзука неуверенно поднялась на ноги, морщась от боли, огляделась в поисках своих вещей. Её котомка так и валялась у стены, свёртки с одеждой и припасами раскатились по полу, и среди них чего-то не хватало... — А Хацунэ? Где же Хацунэ?
Неверного света очага хватило, чтобы обшарить хижину взглядом. Парчового мешка нигде не было видно; при мысли о том, что бесценный барабанчик потерялся или был раздавлен паучьими лапами, её охватила дрожь.
— Где же Хацунэ? — повторила она срывающимся голосом. — Это подарок господина, я обещала беречь его... Ох, лучше бы мне голову потерять!
Таданобу негромко откашлялся.
— Простите, госпожа. Ваш барабанчик здесь, — он протянул ей невесть откуда взявшийся мешок. — Когда я нашёл вас, вы сжимали его в руке, хоть и лишились чувств. Я отложил его в сторону, чтобы не повредить случайно.
Сидзука благоговейно приняла мешочек, раскрыла горловину. Хацунэ был внутри, целый и невредимый — остов из благородного сандала, цветные шёлковые шнуры и светлая кожа отменной выделки. Ни изъяна, ни царапинки. Девушка с облегчением убрала его в мешок, а мешок — в котомку.
— Уже светает, — сказал Таданобу. — Поешьте, пожалуйста, и пойдём. Нельзя терять времени.
2. (235 лет назад)
Тихо-тихо было в доме. Не хлопали створки раздвижных дверей, не скрипели половицы в комнатах; даже злой зимний ветер — и тот умолк, перестал свистеть надоедливой дудкой в щели у порога. Поникли без движения соломенные кисти и бумажные полоски на жезлах нуса, расставленных на столиках вместе со священными подношениями. Всё притаилось и замерло в настороженном молчании.
Нехорошая стояла тишина. Пугающая. Хиромаса привык к ожиданию в засаде, к тягостному предчувствию опасности — но и ему было не по себе, и слишком густым казался стеклянно-стылый воздух, в котором, точно стебли вмёрзшей в лёд речной травы, повисли струйки дыма от курительных палочек.
А вот господин Кудзё не привык, не умел держать страх на привязи. Закричать или убежать он не мог — слишком горд был для этого его светлость Фудзивара-но Моросукэ, Правый министр, отец императрицы Анси и дед наследного принца Норихиры. Но и усидеть на месте ему было невмочь, и оттого он поминутно ёрзал за своей ширмой, оглядывался, шуршал накрахмаленными шелками, поминутно поправляя то шапку, то рукав, — и в тишине этот шорох особенно неприятно царапал слух. Хиромаса терпел. Не по чину ему упрекать вышестоящих, а страх... что же, страх вполне простителен. Непонятное пугает вдвойне, а Правый министр явно не понимал, что делает Сэймэй.
Со стороны взглянуть — сидит посреди комнаты человек в самом простом наряде: белое охотничье платье-каригину поверх тёмно-синего испода, да высокая шапка эбоси, да сложенный веер в руке. Сидит, чуть склонив голову, будто бы задумался или вовсе задремал исподтишка. Лишь губы шевелятся почти беззвучно — а удлинённые глаза, разрезом схожие с ивовыми листьями, полузакрыты, и тени от ресниц не дрожат на высоких скулах, и даже складки одежды лежат неподвижно, будто вырезаны из белого перламутра.
Только вот огоньки свечей перед ним трепещут и пляшут, хотя сквозняков нет и в помине.
Только вот тени по углам колышутся, стекая со стен на пол, и против всех законов природы ползут вперёд, в освещённый круг.
Для Хиромасы это неуловимое движение света и тени было очевидным, как восход и закат. Господин Кудзё ничего не замечал и оттого боялся сильнее, чем если бы Сэймэй размахивал священным жезлом, выкрикивал заклинания или бился в припадке, одержимый злыми духами. Такова уж человеческая природа — то, что можно увидеть, пощупать, попробовать на зуб, страшит куда меньше, чем невидимая и неосязаемая опасность.
Когда веер в руке Сэймэя раскрылся с резким шорохом, вздрогнули оба — и Хиромаса, и Моросукэ. Но Хиромаса изготовился, чуть привстав на одно колено и ослабив меч в ножнах, а министр просто вжал голову в плечи.
Сэймэй заговорил — после тишины его голос показался неожиданно звучным, и слова заклинания эхом отразились от пустых углов. Пламя свечей металось всё сильнее, вспыхивая неровными синеватыми языками, и тёмное нечто, сгустившееся на полу перед колдуном, постепенно становилось видимым — словно облако жирного чёрного дыма заклубилось между преградой из свечей и развёрнутым веером.
Моросукэ задышал часто и громко, отползая от ширмы назад, к самой стене. Тёмное облако перед Сэймэем отделилось от пола и стало подниматься вверх. Оно выглядело всё ещё как простой клочок дыма, но сделалось плотнее и теперь явственно пульсировало, сжимаясь и набухая, как пиявка, спешащая насосаться крови. Хиромаса напрягся. Облако висело уже перед лицом Сэймэя; если колдун замешкается...
Он не замешкался. Белые рукава всплеснули, точно крылья, когда Сэймэй всем телом подался вперёд, вскинув руку в стремительном выпаде — и облако, обманутое его долгой неподвижностью, не успело убраться ни вверх, ни в сторону. Удар, хоть и нанесённый слева, оказался верен — короткий клинок погрузился точно в сердцевину тёмного клубка.
...Да, вот в такие минуты и вспоминаешь, что Абэ — тоже воинский род. И к оружию приучены сызмальства, и даже получив столичный чин и представление ко двору, науку ту не забывают.
Нанизанное на лезвие облако забилось, теряя плотность очертаний, словно бы подтаивая по краям. Не дожидаясь, пока оно снова развеется дымом, Сэймэй поднёс клинок к свечам и взмахом веера стряхнул тёмное нечто с меча прямо в огонь.
Пламя взметнулось и угасло с лёгким хлопком. По затенённой комнате пополз запах палёной кости; Моросукэ, дрожа, поднёс к носу окуренный благовониями рукав.
Сэймэй сложил веер и убрал его за пояс. Вынул из-за пазухи лист бумаги, протёр лезвие Хогэцу и снова спрятал оружие под полу. Хиромаса со вздохом вдвинул свой меч в ножны. Сегодня Сэймэй опять обошёлся без его помощи — как и в прошлый раз, и в позапрошлый... Ну, что ж, на то он и Сэймэй, непревзойдённый колдун и заклинатель. Это его дело — уничтожать нечисть. А дело Хиромасы — всегда быть рядом, на тот крайний, почти невозможный случай, если Сэймэй не справится сам.
— Уже всё? — тихо спросил господин Кудзё. Он очень старался не стучать зубами, и это у него почти получалось.
Сэймэй покачал головой.
— Прикажите завтра позвать плотников. — Голос колдуна звучал хрипло, сгорбленные плечи и чуть запавшие глаза выдавали глубокую усталость. — Полы в этой комнате надо снять и сжечь, до последней доски. Под полом в земле найдёте закопанную коробку. Её тоже сожгите, не открывая, на костре из персиковых веток, и тогда с проклятием будет покончено.
Господин Кудзё с готовностью закивал и выплыл из-за ширмы. Он всё ещё был бледен, но на глазах обретал прежнюю уверенность, и вместо страха на его лице уже читалась величавая скорбь.
— Что же это такое, Сэймэй? Уже в третий раз мне приходится очищать свой дом! И ты говоришь, что эта порча наведена чужими руками?
— Совершенно верно.
— Но кто же этот злодей? Кто пытается сжить меня со свету?
— Чем выше возносится человек, тем больше у него завистников. Вашей светлости виднее, кто из ваших недругов имеет причины и возможность наслать порчу на ваше жилище.
— Твоя правда, — вздохнул Моросукэ, — завистников у меня хватает. Увы, стоило его величеству объявить сына моей дочери наследным принцем, как весь двор ополчился на меня. Одни злословят и разносят клевету, другие заискивают передо мной, пряча нож в рукаве, и я, право, не знаю, кто из них хуже. Кому я могу доверять? Только ближайшим родственникам, да нескольким честным людям, — он благосклонно кивнул Хиромасе, — да ещё вот тебе, Сэймэй. Как печально, когда истинных союзников так мало, а число врагов множится с каждым днём!
Сэймэй чуть склонил голову, то ли соглашаясь, то ли выражая сочувствие. После того памятного случая, когда он избавил новорождённого принца Норихиру от демона, Моросукэ проникся к нему большим уважением. Что думал по этому поводу сам Сэймэй, оставалось неизвестным, но Хиромаса подозревал, что для своевольного и независимого колдуна покровительство вельможи значит не больше, чем прошлогодняя листва.
Но, кем бы ни был господин Кудзё для Сэймэя, порча — это порча. То есть дело, с которым оммёдзи, защищающий столицу от злых сил, должен разобраться до конца. Ведь, кроме самого заклятия, где-то по соседству обретается и тот, который его наложил.
— Скажите, господин Моросукэ, не видели ли ваши слуги какого-нибудь постороннего человека в саду?
— В саду?
— Да, чтобы спрятать эту вещь под полом ваших покоев, злоумышленник должен был пробраться в сад.
— Хм... — Моросукэ задумчиво покивал, качая высокой шапкой. — Что-то такое мне рассказывали на днях, но я не обратил внимания... Да, верно! Позавчера вечером привратник заметил, что одна из служанок бродит по саду в неурочное время, под дождём. Он рассказал домоправительнице, и та подумала, что кто-то из девушек бегает к ограде на свидания. Но когда служанкам велели собраться в покоях, все оказались на месте, и одежда у всех была сухая. Так и не дознались, кто была та ослушница.
— И лица этой неизвестной служанки, конечно, никто не видел?
— Увы, нет. Она накинула на голову подол.
— Ясно, — вздохнул Сэймэй. — Что ж, если эта особа появится вновь, велите сторожам сразу задержать её, а не поручать заботам женской половины. Это всё, что я могу сейчас посоветовать. С вашего позволения... — Он поклонился, отступая к дверям.
— Сэймэй, — Моросукэ жестом остановил его. Хиромаса мог бы поклясться, что в голосе могущественного Правого министра звучала искренняя, едва ли не слёзная мольба. — Тебе ведь открыто будущее. Скажи, какая судьба ждёт моего внука?
Сэймэй повернул к нему восковое, серое от утомления лицо. Казалось, он с трудом удерживает глаза открытыми.
— Не извольте беспокоиться, — хрипло проговорил он. — Принц Норихира взойдёт на престол.
3.
— Что это значит?
Сохранить на лице спокойное выражение было несложно. Куда труднее оказалось удержать голос ровным — потому что сердце так и трепетало к груди, и дрожь подкатывала к горлу. Не от гнева, о, нет, — хотя Ёсицунэ и старался принять суровый вид, подобающий человеку, чьи приказы должны быть законом для вассалов.
Он не терпел пренебрежения долгом, но когда Кисанта крикнул со двора: "Вернулись! Госпожа Сидзука и Таданобу вернулись!" — его первым чувством было невыразимое облегчение. Словно затянулась кровоточащая рана в душе, которая саднила днём и ночью с тех пор, как он отослал Сидзуку. Ёсицунэ не мог даже рассердиться на ослушников — слишком велика была радость при виде их, живых и почти невредимых.
Разумом он понимал, что их возвращение не сулит ничего хорошего. Ещё несколько впустую потерянных дней, ещё меньше шансов для Сидзуки благополучно скрыться от глаз сёгуна и добраться к матери. Но сердце, глупое, безрассудное, как сердца всех людей в этом мире росы, заходилось от счастья. Ведь он думал, что не увидит их больше, — и теперь, когда они вернулись, не находил в себе сил оттолкнуть их снова.
И Сидзука, конечно, почувствовала это: вскинула глаза, улыбнулась робко, но с такой надеждой, что и камень бы растаял. А Таданобу всё не поднимал головы — так и замер, склонившись по-воински на одно колено, под хмурыми взглядами товарищей.
Ёсицунэ сдвинул брови. Со своими кэраями и с простыми слугами дзосики он всегда был ласков. Даже голоса не повышал без нужды — знал, что эти люди, прошедшие с ним всю войну, и без того подчинятся ему с любовью и охотой. Он мог бы многое простить Таданобу, чей брат пал в бою, своим телом заслонив Ёсицунэ от стрелы, — но нельзя было спускать с рук открытое нарушение приказа. Верность долгу — вот звено, что скрепляет узы, связывающие господина и вассала на множество жизней вперёд. А долг означает повиновение, и никак иначе.
— Таданобу, я велел тебе проводить Сидзуку к матери и ожидать моего возвращения в столице. Что помешало тебе выполнить приказ?
Самурай ещё ниже склонил голову, но не ответил. Молчание затягивалось, неловкое и давящее; Ёсицунэ ждал, стараясь не замечать умоляющего выражения на лице Сидзуки.
— Да что ты, язык проглотил, что ли? — не выдержал Бэнкэй. Сбежав с крыльца, он мощной рукой ухватил Таданобу за воротник и встряхнул, чуть не оторвав от земли. — Отвечай, когда господин спрашивает!
Прежде чем кто-то успел раскрыть рот, Сидзука вскочила на ноги.
— Он ни в чём не виноват! — выкрикнула она в лицо монаху. — Да, нам пришлось вернуться, но лишь потому, что враги преградили нам путь в столицу! — Она повернулась к Ёсицунэ, щёки её горели от гнева и смущения — это был первый раз, когда она осмелилась на такую вольность. — Господин мой, Сато Таданобу защищал меня по вашему слову, не щадя жизни. Он спас меня от воинов Тайра, хоть и был ранен, а после сражался со страшным оборотнем и победил его!
При слове "оборотень" воины зашумели. Опешивший Бэнкэй выпустил Таданобу, и даже Ёсицунэ не удержался от удивлённого "Что?"
— Это правда, — твёрдо сказала Сидзука, глядя ему в глаза. — В жилище горных отшельников, где мы хотели переночевать, был паук-оборотень, принявший обличье монаха. И спасли нас только милость Будды и отвага Таданобу.
Ёсицунэ спустился с крыльца и, отстранив Бэнкэя, встал перед Таданобу.
— Так всё и было? — спросил он. И, увидев, что самурай кивнул, добавил с упрёком: — Что же ты молчал?
— Я... был небрежен, — глухо проговорил Таданобу. — Позволил себя ранить и чуть не опоздал на помощь к госпоже. Из-за моей слабости она могла погибнуть. Я не знаю, чем могу искупить вину перед вами.
— Подними голову, — приказал Ёсицунэ. Таданобу подчинился, но по-прежнему избегал смотреть на господина прямо, прятал взгляд, словно от стыда. Усталость словно бы сделала его лицо суше и старше, черты заострились, а глаза были красны от бессонницы и дорожной пыли.
— После расскажете мне обо всём, — Ёсицунэ ласково улыбнулся ему и замершей в ожидании Сидзуке. — Особенно о самураях Тайра, на которых вы наткнулись. А сейчас отдыхайте с дороги и лечитесь, пока у нас есть время. Завтра решим, что делать дальше.
Таданобу поклонился, начал подниматься — неловко, с трудом удерживая равновесие. Бэнкэй подхватил его под руку и повёл в дом, где монахи разместили гостей. Остальные потянулись следом, и взволнованный шёпот летел впереди них. Только Сидзука осталась на месте, теребя завязки на рукавах.
— Ступай в дом, — коротко сказал Ёсицунэ. — Выспись и поешь, всё остальное подождёт.
Он не хотел позволять себе и ей слишком много нежности — к чему, если разлука всё равно неизбежна, днём раньше или днём позже? Просто как-то так вышло... как-то случайно вышло, что она шагнула к крыльцу мимо него, а он не успел отодвинуться; оба замерли в нерешительности, соприкоснувшись рукавами, — а потом их бросило друг к другу, притянуло невидимой и неодолимой силой, как железо к магниту.
Её щёки были солёными от слёз, волосы пахли дымом и смолой. От тягот, пережитых за последний месяц, она похудела, суйкан висел складками на тонких плечах, и стянутый мужским поясом стан ещё выглядел по-девически стройным. Она была сильной в пути, она никогда не жаловалась на трудности, но сейчас, в его объятиях, казалась такой хрупкой, что страшно было сомкнуть руки — словно пойманный птенец прижался к его груди, ища защиты и тепла...
У него было много женщин — одних влекла его красота, унаследованная от матери, других — слава и богатство, добытые мечом; но лишь одна из всех прикипела к сердцу, лишь с одной он не смог расстаться, покидая столицу. Если бы знал, как скоро изменит ему удача, не давал бы воли чувствам. А теперь уж поздно: срослись корнями, как два деревца, и не расплести ветвей. Только рубить — по живому, не щадя себя и её...
...Опомнился, осторожно взял за плечи, отстранил её на длину вытянутой руки.
— Ступай в дом, — повторил он, не глядя в заплаканные и счастливые глаза. — Тебе нужен отдых.
Она отступила, покорно опуская руки. Уже не рвалась к нему — только дышала прерывисто, смиряя плач.
— Господин Ёсицунэ... вы гневаетесь на меня?
"Разве я могу гневаться на тебя, Сидзу, покой моего сердца?" — он хотел бы сказать это вслух, но не мог. Слова любви были бы сейчас солью на свежую рану, и он только покачал головой, спеша оборвать разговор.
— Господин... — Сидзука замешкалась, отвязывая что-то от пояса, потом поклонилась и двумя руками протянула Ёсицунэ знакомый мешочек из золотой парчи. — Позвольте вернуть вам это.
Он взял парчовый свёрток, не спрашивая, — и так знал, что там внутри.
— Не сочтите за пренебрежение, — тихо сказала Сидзука. — Но путь наш был опасен, и я чуть не потеряла Хацунэ. После того, что с нами было, я боюсь, что не смогу сохранить его должным образом. Не годится, чтобы барабанчик, подаренный государем-иноком, бесславно пропал в дороге, поэтому прошу вас, господин мой, оставьте его при себе — на удачу. А самый дорогой ваш подарок и так со мной, — она безотчётно коснулась кисточек на поясе, — и я молю всех богов, чтобы мне хватило сил сберечь хотя бы его.
Ёсицунэ тронул ткань — она казалась тёплой, то ли от солнечных лучей, то ли от рук Сидзуки. Он предпочёл бы отдать Хацунэ ей. В этом было что-то правильное — кто более достоин владеть драгоценным цудзуми, чем прославленная в Восьми Пределах танцовщица? Но в словах Сидзуки тоже была своя правота: он поступил необдуманно, вручив ей этот подарок.
Память некстати явила ему образ женщины. Не Сидзуки, другой — в промокшей до нитке богатой одежде, со спутанными, как морские водоросли, волосами, с лицом, на котором слёзы и морская вода размыли остатки белил и туши, белыми и чёрными каплями падая с дрожащего подбородка. Она плакала, распростёршись на мокрых досках палубы — чудом спасённая от гибели, она плакала от отчаяния, что ей не дали умереть. Хранительница священной яшмы предпочла бы утопиться вместе с сокровищем, лишь бы не оставлять его в руках врага.
Конечно, барабанчик, даже если им владели императоры, не сравнится по ценности с Тремя Священными Реликвиями. Но всё равно — ни бросить при бегстве, ни потерять, ни продать. Великий дар — и великая обуза в долгом и трудном пути.
— Хорошо, — сказал он, вложив в голос как можно больше ласки. — Пусть Хацунэ остаётся у меня. А ты — ты храни наше общее сокровище.
4. (235 лет назад)
Наверное, со стороны Хиромасы это было не очень вежливо — набиваться в гости так поздно вечером, когда хозяин дома устал и отнюдь не расположен к увеселениям. Но он чувствовал, что Сэймэю сейчас нужно чьё-то присутствие рядом... нет, не чьё-то, а именно его, Хиромасы. Он не знал, откуда явилось это чувство, и не задумывался над тем, как ему удаётся предугадывать желания Сэймэя — просто принимал это как должное. И разве не так всегда бывает у друзей, который год делящих между собой тревоги и радости?
А Сэймэй, похоже, и впрямь умаялся не на шутку. К еде не прикоснулся, сгорбился у жаровни, на плечи зимнее платье набросил. Даже сёдзи раздвигать не велел, хотя обычно распахивал их настежь в любую погоду и любовался то цветением диких трав в своём неухоженном саду, то осенним туманом, то снегопадом. И холода словно бы не замечал — а теперь вот, надо же...
Хиромаса взял щипцы, разворошил угли, чтобы горели жарче. Сэймэй поднял голову, будто очнулся от дремоты; по бледному лицу скользнул тёплый отсвет огня, а следом за ним — и улыбка.
— Выпей-ка, — Хиромаса поднял кувшинчик с подогретым сакэ, плеснул в чашку щедро, до краёв. — Изнутри тоже греться надо.
Сэймэй принял чашку, не споря, пригубил хмельное питьё. Хиромаса налил себе, выпил одним духом и крякнул от удовольствия — так славно потеплело в животе. Сушёные рыбки — тонкие, хрусткие, в корочке морской соли — лежали на глиняной тарелке горкой; Хиромаса ухватил верхнюю за хвост и разломил. Сэймэй глянул на него — и тоже потянулся за закуской.
Не счесть, сколько раз они сидели в этой комнате, попивая сакэ и рассуждая обо всём на свете — от старых хроник, повествующих о вещах удивительных и необыкновенных, до свежих придворных сплетен и новостей, от туманных путей искусства Инь-Ян до сияющего величия Закона Будды. Сколько их прошло, этих дорогих сердцу вечеров, оживлённых выпивкой, музыкой и дружеской беседой...
А сейчас вот, хоть убей, не клеился разговор. Не получалось, как прежде, радоваться успешному завершению дела — потому что Хиромаса понимал: это ещё далеко не конец. Три обряда провёл Сэймэй в усадьбе на Девятой линии, считая сегодняшний. Трижды за один месяц он изгонял нечисть из дома Правого министра, и каждый раз это давалось ему всё с большим трудом — и Хиромаса не мог без тревоги думать о том, что может случиться, если силы колдуна однажды иссякнут.
Пока он предавался мрачным размышлениям, горячее сакэ и закуска всё-таки сделали своё дело — лицо Сэймэя понемногу обрело живой цвет, глаза заблестели, скованность движений пропала. Ватная накидка сползла на одно плечо, и он не стал её поправлять. Придвинулся поближе к столику, расположился в своей излюбленной позе, опираясь на руку — только веер вытащил из-за пояса, чтобы не мешал.
— У тебя новый веер, вроде бы? — По правде говоря, Хиромаса заметил это ещё во время обряда, но тогда, само собой, не стал пускаться в расспросы, а теперь вот заметил — и вспомнил. — Можно взглянуть?
Сэймэй протянул ему сложенный веер. Хиромаса бережно принял дорогую вещицу, развернул и цокнул языком от восхищения. По зелёной бумаге, переходящей плавными разводами из мохового оттенка в светлый травяной, раскинулись во все стороны золотые сосновые ветки — каждая хвоинка прорисована тоньше волоска. От лёгких можжевеловых планок тоже исходил едва уловимый хвойный аромат, и скреплены они были золотым стержнем.
— Великолепная работа, — с чувством сказал Хиромаса. — Кто же мастер? Я тоже хочу заказать себе такой.
— Этому мастеру ты вряд ли сможешь сделать заказ, — усмехнулся Сэймэй. — Веер мне подарила мать.
— Неужели? — Хиромаса поспешно сложил веер и даже отвёл руку подальше. — Так это что, волшебная вещь?
— Смотря в чьих руках. Но ты не бойся, смотри, сколько угодно. Тебе — можно.
Чувствуя затаённую щекотку в кончиках пальцев, Хиромаса раскрыл веер и снова вгляделся в изящные золотые узоры — с любопытством, но и с почтительной опаской. Конечно, эта вещь не могла быть обыкновенной, раз ею владела госпожа Кудзуноха, знаменитая кицунэ из леса Синода. И не зря Сэймэй сегодня воспользовался именно этим веером, изгоняя демона. Наверняка на нём пребывает благословление могучих богов — может быть, даже самой Инари. И сосновый узор — добрый знак, пожелание долголетия... хотя что такое долголетие для кицунэ?
— Сэймэй, а сколько живут лисы-оборотни? Правда ли, что тысячу лет?
— Бывает, что и дольше, — спокойно отозвался Сэймэй. — Одна матушкина подруга разменяла девятый век — и вовсе не считает себя старухой.
Хиромаса радостно улыбнулся.
— Значит, и ты тысячу лет проживёшь, да?
— Не знаю, — Сэймэй пожал плечами. — Я ведь наполовину человек...
— Но всё-таки, на другую половину...
— Может быть, Хиромаса. Может быть.
Хиромаса протянул ему веер. Налил себе сакэ и поднял чашку двумя руками.
— Твоё здоровье, Сэймэй. Почтенная твоя матушка этим подарком пожелала тебе жить тысячу лет, а я скажу — живи и две тысячи! — И выпил одним духом.
Сэймэй смотрел на него с грустной улыбкой. Потом развернул веер и негромко прочёл:
С кем же буду тогда
дружить в изменившемся мире,
если сосны — и те
в Такасаго меня не встретят
у источника шумом приветным?
Хиромаса сник. Вот так всегда — хотел подбодрить друга, порадовать, а вместо этого напомнил о плохом. О том, что сам Хиромаса смертен, как все люди, и, значит, из них двоих именно Сэймэю придётся испить горькую чашу — пережить смерть друга. Уходить тяжело, а провожать того, с кем сроднился душой — ещё тяжелее...
Он улыбнулся натужно, пытаясь превратить неловкость в шутку.
— Экий ты сегодня мрачный, Сэймэй. Устал, наверное, а тут я со своими разговорами... Тяжело сегодня пришлось, да?
— Ничего, — Сэймэй рассеянно взмахнул веером, разгоняя дымок над жаровней. — Дальше будет труднее.
— А всё-таки, Сэймэй, как ты думаешь, кто она? Ну, эта неизвестная служанка?
Сэймэй усмехнулся как-то отстранённо, словно бы не Хиромасе отвечая, а собственным мыслям.
— Почему ты думаешь, что это обязательно "она"? Вполне может оказаться, что это был мужчина.
— То есть, — Хиромаса помотал головой, пытаясь привести мысли в порядок. Сэймэй это умел — одной фразой повергнуть собеседника в полное замешательство. — Ты хочешь сказать, что эта служанка — переодетый мужчина?
— Я хочу сказать, что самый простой способ попасть в усадьбу Кудзё и пройти по саду невозбранно — это переодеться служанкой. Женщина, прикрывающая лицо, ни у кого не вызовет подозрений, в отличие от мужчины, которого обязательно остановят и доспросят. А прислужниц у господина Кудзё столько, что сторожа, конечно, не помнят их всех поимённо. Вот почему искать мнимую служанку среди женщин бесполезно. Любой, кто замыслил проникнуть в дом, оделся бы именно так.
— Ну, хорошо, — сдался Хиромаса. — Но тогда получается, что нам вообще ничего не известно о злоумышленнике!
— Почему же? Нам известно, у кого есть причины желать смерти Моросукэ.
Хиромаса безнадёжно махнул рукой.
— Таких людей слишком много. Господин Кудзё прав — ему завидует половина высшего двора. Если принц Норихира взойдёт на престол, влияние Моросукэ станет огромным, а это не по душе тем, кто стоит у трона сегодня. Мотоката и его дочь мертвы, — тут он не удержался от короткого вздоха, — но в Совете ещё хватает тех, кто был бы рад избавиться от Моросукэ, прежде чем он станет дедом правящего императора.
— Допустим, — Сэймэй потянулся за кувшинчиком, изящно придерживая широкий рукав. — Допустим, что Моросукэ умрёт. Кто окажется на его месте?
— В каком смысле? Пост Правого министра займёт, скорее всего, его племянник, господин Акитада. Или, может быть...
— Нет, я имею в виду — кто окажется ближе всех к новому императору? К чьим речам станет прислушиваться юный Тэнно, когда ему потребуется совет и наставление? Кто сможет вместо Моросукэ претендовать на пост канцлера — или регента, если Норихира получит трон, не достигнув совершеннолетия?
— Хм... — Хиромаса призадумался, перебирая в уме родичей наследного принца. — Наверное, старший брат Моросукэ. Левый министр Фудзивара-но Санэёри, господин Оно-но-мия, думаю.
— Вот, — удовлетворённо сказал Сэймэй, поднимая чашку. — Видишь, ты сам назвал имя.
— Что? — Хиромаса изумлённо взглянул на друга. — Сэймэй, ты так не шути!
— Какие уж тут шутки... Ты верно сказал — при дворе много людей, желающих смерти Моросукэ. Но лишь одному из них эта смерть по-настоящему выгодна. Остальные просто получат в регенты старшего Фудзивара вместо младшего — невелика разница.
— Нет, — Хиромаса решительно помотал головой. — Сэймэй, ну что ты, в самом деле? Они же братья!
— Только по отцу.
— И что?
Сэймэй покачал чашку в ладони.
— Сыновья, рождённые в одной семье — соперники с колыбели, особенно если у них разные матери. Младший тщится догнать старшего, который вечно впереди — и по силе, и по знаниям, и по чинам. Старший завидует младшему, которого больше ласкают и балуют в семье. Но хуже всего, когда между братьями начинается соперничество за власть. Ревность отца, обойдённого сыном, ревность учителя, проигравшего собственному ученику, — всё меркнет по сравнению с ревностью старшего брата, вынужденного уступить дорогу младшему. Это чувство может толкнуть человека на страшные дела, даже если на кон брошен куда меньший приз. А между братьями Фудзивара сейчас лежит ни много ни мало — возможность править страной через плечо Сына Неба. И ты думаешь, что какие-то родственные узы способны удержать Санэёри, когда перед ним открывается прямой путь к вершине?
— Сэймэй... — Хиромаса беспомощно развёл руками. Он и рад был бы возразить — да все возражения рассыпались, как сырой песок, под тяжестью слов Сэймэя. — Но нельзя же подозревать человека только потому, что ему выгодна смерть Моросукэ.
— Не только. — Сэймэй опустил ресницы, словно размышляя, стоит ли говорить дальше. — За последние два месяца в столице погибли девять человек.
— Что? — Хиромаса резко поднял голову. — Когда? Почему мне не доложили?
— Бродяги. Нищие. Неприкасаемые. Кто докладывает о таких? Кто вообще их считает, живых или мёртвых? Уж точно не городская стража. — Голос Сэймэя налился уксусом. — А они умирают довольно странно — тела почти невредимы, но истощены, словно жертвы месяцами постились и почти не пили воды. И у каждого небольшая ранка на плече, на шее или на руке.
— Это демон?
— Это оборотень. И я даже знаю, какой именно. Но подобные твари не обитают в городах, они предпочитают леса и горные ущелья. А этот поселился прямо у нас под носом — и я не могу его выследить.
— Не может быть! — Хиромаса насупился. — Чтобы ты да не справился? Ты ведь любую нечисть на чистую воду выводишь!
— Да, если нечисть обитает в своём логове, — поправил Сэймэй. — Но этот оборотень появляется прямо в городе и исчезает, не потревожив защитных барьеров вокруг столицы. И он поселился не в западной половине, среди заброшенных домов и развалин. Все жертвы найдены на расстоянии двух-трёх кварталов от усадьбы Оно-но мия, куда мне, сам понимаешь, ходу нет.
Хиромаса открыл рот и молча закрыл.
— Если же ты спросишь, какое отношение имеет оборотень к порче, наведённой на дом Моросукэ, — продолжал Сэймэй, словно не замечая его смятения, — то я отвечу: высшие оборотни, как тебе известно, не только умеют менять облик, но и искусны в колдовстве. Пример сидит сейчас перед тобой.
— Сэймэй!
— Я всего лишь хочу сказать, что колдун-оборотень — не такая уж редкость, как может показаться с первого взгляда. И именно они наиболее опасны, потому что, в отличие от диких оборотней, обладают человеческой расчётливостью и умело сочетают колдовство с природными способностями. Если Санэёри привлёк на свою сторону такого помощника, то дни Моросукэ сочтены. Очень скоро они добьются своего.
— Но ты же говорил, что принц Норихира...
— Взойдёт на престол, да. Но Моросукэ не доживёт до этого дня.
Хиромаса не успел поставить чашку — рука дрогнула, тёплое сакэ плеснуло через край.
— Ты уверен?
Сэймэй наклонил голову.
— Я вопрошал звёзды о его судьбе. Он уйдёт, не прожив полного круга лет. Не увидит воцарения внука и не успеет насладиться регентской властью.
— Значит, что бы мы ни делали — нас ждет неудача?
Колдун отвернул голову к плечу и ничего не сказал.
— Ты... — Хиромаса помялся. — Ты что, хочешь бросить это дело?
Сэймэй не ответил. Потянулся за кувшинчиком, налил — всё с тем же безразлично-задумчивым видом.
— Прекрасно, — буркнул Хиромаса, пытаясь побороть нарастающую злость. — Действительно, зачем утруждаться? Если ему на роду написано умереть — какой смысл тратить силы, защищая его?
Молчание Сэймэя только распаляло его.
— Какой вообще смысл во всём этом, а, Сэймэй? Подумаешь, людей убивают... велика важность! Люди всё равно смертны, так какая разница? Да? Так, что ли?
Сэймэй издал короткий смешок.
— Ох, Хиромаса, — его мягкий голос мгновенно сгладил раздражение, как масло сглаживает бушующие волны. — Меня всегда поражает, с каким пылом ты всегда бросаешься в бой, не разобравшись толком, кто твой противник.
— Левый министр, разве не так? О... — Хиромаса сглотнул.
— Вот именно. Ты готов заступить дорогу одному из трёх самых могущественных людей этой страны? Ты, Минамото-но Хиромаса, кавалер пятого старшего ранга, командир Правой дворцовой стражи — готов бросить вызов самому Левому министру?
Не дожидаясь, пока Хиромаса соберётся с духом и скажет "да", Сэймэй продолжал:
— Я знаю его силу, и он знает мою. Я пока ничего не могу ему сделать, но и он не в силах мне повредить. При дворе я защищён лично императором, вне двора — своим колдовским даром. А вот ты, мой дорогой Хиромаса, уязвим со всех сторон. Честно говоря, именно тебе было бы разумнее "бросить это дело", как ты выразился.
— Я не боюсь! — вспыхнул Хиромаса
— А я боюсь, — отрезал Сэймэй. — Не за себя.
— Ладно, — признал Хиромаса. — Мне немного... не по себе. Но, Сэймэй, я не могу отступить. И дело тут не в самолюбии. Я ведь... я тоже имею право бояться за тебя, как ты думаешь?
— Хиромаса... — Сэймэй, кажется, хотел что-то добавить, но вдруг отвёл взгляд. — Ладно. Только обещай, что будешь осторожен. Мы вступаем в игру, где ошибка может стоить головы.
5.
Холодным и туманным выдался этот рассвет, неохотно поднималось солнце из-за восточных вершин, чтобы окунуться в тусклое небо, где облака бежали под ветром серыми грядами, как барашки по штормовому морю. И на душе у Ёсицунэ было так же пасмурно, и мысли текли невесёлой чередой, под стать облакам.
Радость от возвращения Сидзуки оказалась кратковременной, хоть и обжигающе-яркой. Вчерашний вечер пролетел незаметно за ужином и разговорами: слушали рассказ Сидзуки о битве с оборотнем — а рассказывать она умела, и речь сложила красиво, будто песню, так что воины только ахали и головами качали. Подступили с расспросами и к Таданобу, но тот был немногословен, то ли от усталости, то ли от смущения, а потом и вовсе испросил разрешения удалиться, сославшись на лихорадку от ран. Остальные сидели допоздна, вспоминая страшные истории о колдунах, нечистой силе и вообще обо всём удивительном и необыкновенном. Помянули и славного Минамото Ёсииэ, что воевал с мятежными Абэ, сведущими в колдовстве, и с великаном Рёдзо, который умел напускать на врагов туман; не забыли и о чудесах, явленных накануне битвы в проливе Дан-но-ура, и о том, как Сидзука танцевала для Восьми царей-драконов и вызвала своим танцем дождь.
И много, много историй было рассказано в тот вечер, пока они сидели в гостевом доме, и легко было у всех на душе, словно они опять пировали в столичной усадьбе Хорикава, ещё не будучи ни беглецами, ни мятежниками.
Но вечер прошёл, и настало утро, а вместе с ним — и необходимость принимать решение. Оттого и мрачен был Ёсицунэ, оттого и лежала тень на его лице.
Оставлять Сидзуку при себе было нельзя — горы не место для беременной женщины. Сейчас Ёсицунэ и его люди находились в сносных условиях, с соизволения настоятеля Хогэна отдыхая в долине Срединной обители храма Дзао, но такое благоденствие не могло продолжаться долго. Задерживаться здесь было опасно — Ёсицунэ и так уже рискнул больше необходимого, положившись на доброе отношение ёсиноских монахов и их главы. Но обитатели горных храмов вовсе не отрезаны от мира и прекрасно знают, куда дует ветер в долинах. В любую минуту Хогэн может решить, что дружить с сёгуном безопаснее, чем с его опальным братом — и тогда те же монахи, что приносят гостям рис, чечевицу и сакэ, придут сюда с мечами и стрелами.
Значит надо уходить, самое позднее, завтра — когда Таданобу немного отдохнёт и восстановит силы. Но что делать с Сидзукой? Она, конечно, захочет последовать за ним, но это совершенно исключено. Если из долины придётся прорываться с боем, не лучше ли будет оставить её в обители? Как бы ни относились монахи к самому Ёсицунэ, на прославленную Сидзуку они не поднимут руки — остерегутся позора. Возможно, её отошлют к Ёритомо, как почётную пленницу — но, по крайней мере, останется жива...
А в радость ли ей будет такая жизнь?
И что станет с ребёнком? Если узнают, что Сидзука беременна от Ёсицунэ — её убьют просто так, для надёжности. Не настолько глуп и мягкосердечен камакурский владыка, чтобы оставлять на земле потомство брата, которого он сам сделал своим врагом.
Как всегда, при мысли о брате где-то под вздохом шевельнулась тупая боль. Если верить мудрецам, именно там пребывает чувствующая часть души в человеческом теле. Ёсицунэ верил — что, как не душа, может так болеть при воспоминании о несправедливости, об обманутых надеждах, о растоптанных узах родства?
Парчовый мешочек с Хацунэ лежал у его колен. Ёсицунэ распустил шнур, раскрыл мешок и взял в руки невольного виновника своего изгнания.
Он помнил день, когда впервые прикоснулся к нему — это было после битвы при Ясима. Отступающие в беспорядке воины Тайра бросали оружие и ценности, и среди оставленных сокровищ оказался этот цудзуми — с виду просто дорогая безделушка из сандала, кожи и шёлковых шнуров. Ёсицунэ отослал его в Камакуру вместе с остальной добычей, даже не догадавшись, что в его руках побывал легендарный Хацунэ — "Изначальный звук", барабанчик, услаждавший слух императоров от Сиракавы до Сутоку.
Во второй раз он увидел свой бывший трофей уже в столице, на аудиенции у государя-инока. Из Камакуры барабанчик был с почётом возвращен во дворец — и здесь пожалован Ёсицунэ в награду за доблесть.
Он принял подарок с трепетом — ведь до сих пор барабанчиком владели отпрыски императорского дома, а кроме них — только Тайра, в надменном ослеплении замыслившие подняться выше всех и встать на ступенях трона. Ныне же Тайра были разбиты, их гордые стяги втоптаны в песок Ити-но-тани и потоплены в волнах Дан-но-ура; и государь-инок, вручив Хацунэ новому защитнику столицы, как бы утвердил его победу, возвращая роду Минамото славу, утраченную в смуте годов Хогэн и Хэндзи.
Ёсицунэ радовался без всякой задней мысли, полагая, что его почёт — это почёт всего дома Гэн. Но кому-то показалось, что государь-инок слишком уж благоволит молодому хогану. Кто-то заподозрил, что Двор видит в Ёсицунэ союзника, который будет более удобным и послушным сёгуном, чем его старший брат.
И Ёритомо донесли, что вместе с подарком Ёсицунэ получил от Двора тайный приказ — ударить по брату, как он ударяет в этот барабанчик.
... Конечно, дело было не в Хацунэ. Не будь злополучного барабанчика, Ёритомо нашёл бы другой предлог, чтобы обвинить его в измене и в посягательстве на власть. Судьба младшего брата была решена заранее — и не в столице, где он получил Хацунэ из рук государя-инока, а в далёкой Камакуре, где сёгун вложил в руки Тосанобо отделанную серебром нагинату, повелев украсить её остриё головой Ёсицунэ.
Едва ли Ёритомо рассчитывал, что Тосанобо справится с поручением. Не так-то просто добыть голову, которую все войска Тайра не смогли снять с плеч, сколько ни пытались. Тосанобо был обречён — как стреле, посланной между сходящимися для боя кораблями, ему суждено было упасть в пучину, не достигнув цели; но его смерть послужила сигналом к началу сражения. Как судья и наместник столицы, Ёсицунэ обязан был казнить Тосанобо за покушение — и тем самым развязать руки Ёритомо, дав ему более весомый повод для обвинений, чем сплетни и россказни клеветников.
Он взял Хацунэ в руки со смешанным чувством горечи и опустошения. Пока их отношения с братом удерживались на грани холодной враждебности с одной стороны и молчаливой обиды — с другой, он избегал прикасаться к барабанчику. Благоговел перед старинным инструментом, но ни разу не играл на нём — словно, ударив по Хацунэ, он и впрямь необратимо разрушил бы остатки былой дружбы.
Но Ёритомо нанёс удар первым. Не по коже барабанчика — по дому брата; и былые надежды на примирение теперь казались Ёсицунэ нелепыми и наивными.
Он прижал барабанчик к плечу, подышал на тонкую светлую кожу, увлажняя её своим дыханием, и легонько ударил по ней ладонью. Хацунэ отозвался коротким сухим стуком, похожим на презрительный смешок. Ёсицунэ ударил ещё дважды, натягивая другой рукой цветные шнуры оплётки. На этот раз голос барабанчика разбился на два тона, в которых отчётливо прозвучало: "Ду-рак".
Размер: миди
Пейринг/Персонажи: Сисио Макото, Химура Кэнсин (Баттосай), ОМП, ОЖП
Категория: джен
Жанр: социальная драма, немного экшен
Рейтинг: R
Предупреждения: кровькишки, глумление над трупами и кровопитие
От автора: Вторая из работ, написанных целенаправленно по заявке с Инсайда про юные годы Сисио Макото. Как выяснилось, по заявке того же человека, который заказывал выживших Синсэнгуми в Мэйдзи

Должна признаться, что этот текст я сначала писать не собиралась - ну, не настолько меня зацепил Сисио, чтобы сочинять ему полную преканонную биографию. Тем более что при первом обдумывании всё выглядело как-то слишком предсказуемо - если рассматривать его как самурая или ронина. Настоящим толчком послужила мысль о том, что его идея фикс про буквальное поедание противника выглядит, мягко говоря, нетипичной для японского мировоззрения, - отсюда всё и пошло.

По правую руку от Кацуры, с той стороны, где по обычаю кладут меч в знак мирных намерений, сидит худощавый, невысокий юноша – почти мальчик с виду. Его волосы цвета лисьего меха стянуты в высокий хвост, на щеке скрещиваются наискосок два тонких шрама. Легендарный хитокири Баттосай. Ещё недавно он резал людей на улицах Киото, а теперь подался в телохранители. Если сацумцы замыслили предательство, то задача Баттосая – увести Кацуру отсюда живым.
По левую руку, где меч кладут в ожидании схватки, сидит рослый, широкоплечий молодой человек. По его смуглому лицу блуждает ленивая улыбка, взгляд прищуренных тёмных глаз неторопливо движется по комнате, подолгу останавливаясь на каждом охраннике Сайго. В отличие от Баттосая, имя Сисио Макото известно немногим, но счёт его жертвам уже идёт на десятки. Если переговоры закончатся провалом и бегством, его задача – убить всех, кто попытается их преследовать.
Может быть, поэтому люди Сайго, на которых падает его оценивающий взгляд, начинают ёрзать на местах и одёргивать рукава, не понимая, откуда пришла тревога.
В дальний угол комнаты Сисио не смотрит. Там нет ничего интересного, там – люди, которых ему убивать настрого запрещено, двое посредников из клана Тоса. Один из этих посредников, некий авантюрист по фамилии Сакамото, разговаривает громче всех, передвигается от Сайго к Кацуре и обратно, убеждает и доказывает. Сисио обращает на его слова не больше внимания, чем на шум зимнего ветра за стеной, пока сквозь ропот спорящих голосов не прорывается взволнованный выкрик:
– Нет, Синта, вот тут ты не прав!
Привычка оказывается сильнее рассудка: Сисио поворачивается в ту сторону, откуда прозвучало имя. И сталкивается взглядом с точно так же обернувшимся Баттосаем.
Они замирают на секунду, и каждый читает в глазах другого отражение собственного замешательства и досады от того, что его ошибка не осталась незамеченной. Потом Сисио изгибает губы в понимающей, чуть снисходительной усмешке. Но Баттосай не принимает вызова, а просто отворачивается.
Сакамото размахивает руками и горячо объясняет что-то Кацуре, а его приятель Накаока Синтаро хмурится, признавая ошибку, и Сайго удовлетворённо кивает, приняв про себя какое-то решение, – но Сисио не интересуют ни их споры, ни даже исход переговоров. Какие бы хитроумные уловки ни изобретали политики, в конечном счёте всё определяет только сила.
Это он понял ещё в те годы, когда носил другое имя.
***
– Люди – дураки, – говорит Хатибэй, помешивая в котелке длинным черпаком.
От густого запаха мяса Синтаро чуть не захлёбывается слюной. Но старается не показывать виду. Тех, кто клянчит еду, Хатибэй не уважает. Он вообще мало кого уважает, а людей – настоящих людей – меньше всего.
– Люди – дураки, – с удовольствием повторяет Хатибэй. – Прикидываются умными и просвещёнными, а сами – тупее, чем мои свинки. Жрут, дерутся и плодятся. Только пользы от них поменьше, а вони – побольше.
Он говорит это уже не в первый раз. И даже не в сотый, наверное. Но Синтаро всё равно слушает, отвлекаясь даже от мыслей о мясе. Хатибэя приятно слушать. Когда он ругает людей, начинает казаться, что быть нечеловеком – не так уж плохо.
– Взять, например, жратву, – Хатибэй зачёрпывает из котелка отвар и дует на черпак, вытянув губы. С черпака капает горячий жир, Синтаро невольно сглатывает и сцепляет руки за спиной, чтобы не выдать нетерпения.
– Они считают себя лучше нас и поэтому едят белый рис, а нам оставляют жрать убоину. Самый нищий батрак, если у него нет риса, будет глодать коренья и варить траву, но не согласится хлебать со мной из одного котелка. И кто при этом остаётся в дураках? Посмотри на этих хилых людей, которых ветром сбивает с ног. И посмотри на меня.
Синтаро уважительно смотрит. Хатибэя не сбить с ног ветром. Его, наверное, и землетрясением не сбить. У него плечи, как валуны, а руки – как свиные окорока. Он очень сильный, самый сильный в деревне. Он дубит кожи и мнёт их руками, пока они не станут мягкими. Или наоборот сушит их до жёсткости и режет на тонкие полоски, чтобы делать доспехи. Говорят, что он может сломать шею коню, схватив его за уздечку.
– Они называют мясо нечистым, – бормочет Хатибэй, хлебая дымящуюся жижу из черпака. – Хе! Мясо – это сила! Почему тигр сильнее быка? Потому что бык ест траву, а тигр – мясо. Так всегда было заведено: съедаешь чьё-то мясо – съедаешь и силу. Я съел за свою жизнь тысячу быков – значит, я силён, как тысяча быков! И стану ещё сильнее!
Он вылавливает из котелка тёмный жилистый кусок конины. Синтаро против воли подаётся вперёд. Если бы он был таким же сильным, как Хатибэй, он мог бы отнять это мясо. Но пока что Хатибэй сильнее и ест сам, обливая подбородок жирным соком и не обращая внимания на голодного мальчишку. Чтобы есть мясо, надо быть сильным – тогда никто не отберёт. А чтобы быть сильным, надо есть мясо. Мысли замыкаются в кольцо. Это как Хатибэй говорит: тигр сильнее быка, потому что убивает и ест быков. Но ведь тигр потому и убивает быков, что он сильнее. А быку с тигром никак не справиться.
– Что, тоже хочешь? – Хатибэй ещё не насытился, но уже пришёл в хорошее расположение духа. – На, держи.
Брошенный кусок мяса на кости не успевает коснуться земли – Синтаро ловит его на лету и, обжигаясь, впивается в угощение крепкими, как у волчонка, зубами.
***
– Если изнутри посмотреть, то все одинаковые, – говорит Токити. – Что самурай, что горожанин, что мы с тобой. Одёжка и прозвание разное, а вот если одёжку слупить да палками всыпать так, чтобы своё прозвание забыл – тут-то и понятно, что никакой разницы нет. Под палками все орут на один голос.
Токити знает, о чём говорит. Он работает помощником палача в городской тюрьме. Ему поручают такую работу, которую людям выполнять запрещено – связывать и держать осуждённых во время пытки, убирать в допросной, мыть и выставлять на просушку отсечённые головы.
Всё же Синтаро решается ему возразить:
– Самураев не бьют палками.
– Ну, не бьют, – ворчит Токити. – Зато им головы рубят. А голова с самурайской косичкой падает с таким же стуком, как и без косички. Спроси вот хоть у этого молодчика. – Он кивает на тачку, покрытую соломенной рогожкой. Из-под рогожки торчат грязные босые ступни.
Хоронить тела казнённых – это тоже часть работы Токити. Тех, у кого нет родственников и друзей, сжигают за деревней на берегу реки. Но до похорон тела принадлежат Токити, и он может пользоваться ими как пожелает.
– Подсоби-ка, – говорит он, обвязав верёвкой руки мертвеца. Синтаро с готовностью налегает на верёвку вместе с Токити, и голое обезглавленное тело приподнимается с тачки и выпрямляется у деревянного столба.
Пока Синтаро оттаскивает тачку, Токити идёт в сарай и возвращается с завёрнутым в циновку сокровищем.
Дрожа от волнения, Синтаро смотрит как из-под грязной соломы появляются на свет ножны из светлого дерева, четырёхлепестковая цуба из солнечной латуни и отделанная скатовой кожей, оплетённая шёлковым шнуром рукоять.
Если бы кто-то из людей узнал, что "нечистый" украл самурайский меч, за это преступление вырезали бы всю деревню. Но никто не узнает. Это их общая тайна – Токити и Синтаро.
Токити вытягивает меч из ножен и становится в позицию перед свисающим со столба телом. Синтаро замирает чуть позади, едва дыша. Лезвие отточено на славу, узкая кромка горит на солнце так, что больно смотреть. С мечом в руках даже голопятый Токити смотрится величественно, не хуже всамделишного самурая с цветных картинок.
– Х-ха!
Меч обрушивается косой слепящей вспышкой, и Синтаро восторженно выдыхает: лезвие рассекает висящее тело, как мешок с песком. Токити чуть мешкает только на обратном движении, вытягивая меч осторожно, чтобы не повредить о кости драгоценную сталь, и тут же протирает её чистым лоскутком ткани.
– Ну, как? – самодовольно говорит он.
Синтаро завистливо вздыхает. Труп разрублен не надвое, но достаточно глубоко. Длинная рана приоткрывается под собственным весом мертвеца, словно большой удивлённый рот, и можно увидеть внутри чисто рассечённые рёбра и мятые сизые плёночки лёгких. Лезвие дошло почти до середины грудной клетки – чтобы сделать это с одного удара, нужно не только мастерство, но и большая сила. Синтаро каждый день украдкой тренируется в роще за деревней, стуча палкой по бамбуковым стволам, но ему такого удара не нанести.
– Было время, – ворчит Токити, тщательно проводя лоскутом по лезвию меча, – когда мы эти вот головы не только прибирали, но и рубили. И оружие хоть для казни, а могли подержать в руках. А теперь нашего брата уже и в палачи не берут. Развелось сверх меры всяких нищих самураев да ронинов, у которых за душой ни земли, ни ремесла, кроме как мечом махать. Вот их теперь и нанимают головы рубить. А смертники и рады: поди, каждому приятно, если его на тот свет отправит благородный воин, а не вонючий трупонос. Взятки тюремщикам суют, сволочи, чтобы к палачу-самураю попасть. А нам – хрен собачий, а не меч в руки.
Он резко вдыхает и снова рубит тело – наискось через грудь, с оттяжкой.
– Ничего, – выплеснув злость, говорит он. – Вот поднакоплю деньжат и в люди выйду. А там уж как-нибудь пробьюсь в головорубы. Тут, главное, сноровку показать. Рубить так, чтобы никакой ронин в подмётки не годился. Понял, малец?
– Понял, – эхом отзывается Синтаро.
– Тогда иди сюда.
Не веря собственному счастью, Синтаро подходит, протягивает руки – и меч тяжело, весомо ложится на них, сияя небесным светом на грязных ладонях.
– За рукоять бери, – велит Токити. – Давай, смелее, обеими руками... да не дави так, не за мамкину сиську хватаешься. Пальцы свободнее. Локти не растопыривай. Замах от правого плеча, вот так!
Синтаро бьёт по трупу изо всех сил – и чуть не выпускает меч из рук, удивляясь упругому отскоку лезвия. На груди мертвеца остаётся только неглубокая зарубка.
– Сильнее! И перед ударом вот эдак ладони сжимай. Как будто бельё выкручиваешь, понял?
– Понял! – счастливо выдыхает Синтаро.
Со второго раза клинок врубается в уже продырявленную грудную клетку и даже рассекает ребро.
– Уже лучше, – ухмыляется Токити. – Задатки у тебя есть, только заниматься надо. Глядишь, и в помощники ко мне пойдёшь – потом, когда палачом заделаюсь. Вместе будем головы рубить.
Синтаро кивает. Ради счастья держать в руках настоящий меч он готов заниматься каждый день и рубить для Токити столько голов, сколько он прикажет.
– Во, смотри-ка, – Токити подходит к трупу, тычет остриём ножа в дыру между разрубленных рёбер и, подцепив, вытаскивает наружу какой-то синюшно-лиловый комок размером чуть побольше кулака. – Сердце.
– Это – сердце? – искренне удивляется Синтаро.
***
– Помогите! – орёт визгливый голос, в котором насилу можно узнать Хатибэя. – Спаси-ите!
Великан барахтается на земле, и Синтаро не сразу удаётся разглядеть длинное серое тело, припавшее к его горлу. Здоровенный тощий волк дерёт лапами и зубами одежду кожемяки, добираясь до толстой шеи.
Синтаро никогда не видел таких больших зверей. Волк выглядит намного страшнее бродячих собак, что вечно ошиваются у деревни, растаскивая кости из мусорных куч. Должно быть, он пришёл с гор, из тех лесов, куда не добираются даже охотники.
Но Хатибэй ведь ещё больше. И он сильный, как тысяча быков. Что ему какой-то волк? Вот сейчас он возьмёт этого волка одной рукой за шею, другой за хвост – и разорвёт пополам, как размягчённую в щёлоке кожу. Или свернёт ему шею, как тому коню...
Почему же он кричит и катается по земле, отпихивая руками клыкастую пасть, что тянется к его горлу?
– Синта-а... – хрипит искривлённый от натуги рот. – Помо... ги...
Синтаро не двигается с места. Разве он может помочь? Он слабый. Хатибэй сильный. Сильный – это тот, кому не нужна помощь.
– С-с-с...
Хатибэй пытается схватить волка за загривок и на мгновение убирает руку от шеи. Узкая морда рывком подаётся вперёд, жёлтые клыки щёлкают трижды. Раз – хрустит кость, и вторая рука кожемяки повисает тряпкой. Два – клыки срывают мясо с его лица, когда он судорожно прижимает подбородок к груди, пытаясь уберечь горло. Три – Хатибэй с воем отдёргивает голову, и волк одним движением челюстей вспарывает ему шею под кадыком.
Теперь Синтаро не смог бы пошевелиться, даже если бы захотел. Зрелище льющейся крови ему не в новинку – в деревне то и дело режут свиней и приведённых на убой кляч; но он впервые видит, как четвероногий убивает двуногого, а не наоборот. Зверь с окровавленной мордой внушает цепенящий ужас, но к этому ужасу отчего-то примешивается восторг. Волк тощий и хромой, он поджимает заднюю лапу, его косматая шерсть клоками свисает с запавших боков. Но он сильный. А Хатибэй, хоть и хвастался своей тысячей быков, оказался слабым.
Оказался мясом.
Волк облизывается и смотрит на Синтаро жёлтым насмешливым глазом, словно размышляет – хватит ли ему этого мяса или надо убить ещё кого-нибудь? Например, вот этого слабого мальчишку?
– Синтаро! Назад!
Токити бежит от сарая, и в левой руке у него ножны, а в правой – меч, и с запретным оружием в руках он похож на настоящего воина, на одного из тех, для кого Хатибэй выделывал кожу на доспехи.
– Назад, кому сказал! Я сам.... сам!
Синтаро отступает на шаг, а больше не успевает – волк, завидев новую угрозу, поворачивается навстречу Токити, а тот прекрасным движением заносит меч для удара...
Волк стрелой бросается вперёд, низко пригибая голову. Меч проваливается в пустоту, лишь слегка цепляя свалявшуюся шерсть, а волк всеми клыками вцепляется Токити в бедро. И опрокидывает его на землю.
Токити кричит, а волк только глухо взрыкивает, не разжимая зубов. Токити бестолково колотит зверя рукоятью по голове, но волк выпускает его искромсанную ногу лишь для того, чтобы вгрызться в живот.
Меч падает на землю, и с этого момента Синтаро не видит ничего, кроме блеска наточенной стали и пленительного изгиба обнажённого лезвия. Он слишком долго мечтал об этом мече, о возможности снова подержать его в руках, и желание сомкнуть пальцы на его рукояти затмевает и осторожность, и голос разума. Метнувшись мимо Токити и волка, он хватает упавший клинок.
Меч тяжёл – но это правильная тяжесть, она не сковывает тело, а будто сама направляет руку в полёте. Волк сгорбился над Токити, торопливо и жадно рвёт его живот, тянет исходящие паром потроха – и слишком поздно поднимает голову, не в силах быстро оторваться от еды.
Синтаро рубит со всего размаха, как рубил трупы. Клинок с хрустом врезается в хребет волка, и рычание обрывается жалобным собачьим взвизгом. Волк скатывается с тела Токити и извивается в грязи, тщетно пытаясь встать на лапы. Синтаро в изумлении смотрит на него. Где же грозный вид, где сила, от которой бежали мурашки по коже? Всего один удар меча превратил непобедимое чудовище в скулящую от боли шавку – и при мысли о том, что этот меч теперь принадлежит ему, Синтаро становится весело.
Он заходит сбоку, примеряется и обрушивает на шею волка ещё один удар. Голова с поникшими ушами катится к его ногам, горячая кровь омывает босые потрескавшиеся ступни.
Токити ещё жив, его глаза двигаются, и изо рта вырываются бессмысленные звуки. Синтаро смотрит на его внутренности, вытянутые из рваной дыры в животе. Токити был прав, когда говорил, что люди все устроены одинаково. Его собственное тело сейчас было точь-в-точь похоже на разделанный труп из числа тех, на которых он тренировался.
А ещё он говорил, что рубить живое тело – совсем не то, что рубить мертвечину...
Синтаро становится устойчиво, расставив ноги на ширину плеч. Замахивается и прямо перед ударом скручивает ладони встречным хватом на рукояти меча – как показывал Токити.
Наверное, он сделал что-то неправильно. Меч не отрубает голову, а только рассекает шею до позвонков. Токити выкатывает глаза, сипит, булькает кровью и лишь через десять ударов сердца затихает. Нехорошо получилось.
Хатибэй тоже жив. Он зажимает рану на шее, но рука соскальзывает, едва держит края разорванной плоти. По грязным щекам текут слёзы, а губы и челюсти превратились в скользкое красное месиво.
Синтаро глядит на него с презрением.
И эту гору бесполезных мышц он считал первым силачом деревни? Это на него всегда смотрел снизу вверх, ловя каждое слово, каждый нехотя брошенный кусок? Опрокинутый на землю, измазанный грязью и кровью, Хатибэй жалок, как раздавленный червяк – и Синтаро охватывает горькая досада. Если бы он знал раньше, насколько слаб этот обжора, он давно бы уже сам отнимал у Хатибэя еду, не довольствуясь жалкими подачками.
И тут ещё одна мысль, ослепительная в своей простоте, поражает его, как удар молнии. Волк победил Хатибэя и Токити, а он, Синтаро, победил волка. Значит, он сам сильнее и Хатибэя, и Токити. Он самый сильный в деревне... пока у него есть этот меч.
Ему кажется, что оружие обжигает ладони. Но это приятный жар, такой же, как от огня и котла с горячей пищей. Пока у него есть этот меч – никто больше не посмеет отнять у него кусок мяса или место у очага. Окрылённый этой мыслью, он заносит клинок снова – и на этот раз всё получается как надо. Голова Хатибэя отделяется от тела и, покачнувшись, ложится виском в грязь.
Токити был прав и в этом. Живое неокоченевшее тело совсем иначе пропускает сквозь себя лезвие. И ещё: пробуя меч на трупах, нельзя даже представить, какое это удивительное ощущение – держать в руках чужую жизнь. Каким сильным чувствуешь себя в тот миг, когда по твоему мечу стекает свежая горячая кровь.
На долю мгновения Синтаро хочется дотронуться до лезвия языком, попробовать эту силу на вкус – как волк облизывал окровавленную морду. Но он сдерживается и только обтирает меч об одежду Хатибэя.
– А-а-а! – женский крик бьёт в уши. Синтаро оборачивается. Односельчане стоят вокруг. Все, кто разбежался в испуге, когда волк ворвался в деревню, – все они снова здесь. У одного в руках вилы, у другого бамбуковый шест, третий зачем-то держит дубинку. Синтаро становится смешно. Пока они вооружались чем попало, он сам сразил волка, не дожидаясь ничьей помощи, потому что сильный – это тот, кому не нужна помощь...
– А-а-а! – надрывается женщина, показывая на него. – Убил, убил, убил!
Только теперь Синтаро узнаёт в ней жену Хатибэя. Растрёпанная воющая баба ничуть не похожа на горластую и бойкую Нацу, которая под горячую руку гоняла его палкой со двора, а иногда, расщедрившись, совала горстку жареных бобов.
Она подбирает камень и бросает в Синтаро. Он легко уклоняется, но из толпы летят другие камни, и некоторые, попадая, бьют его по спине и ногам. И он понимает: эти шесты и вилы – это не для волка. Это его собираются заколоть и забить намерть, как дикого зверя.
Он теряется. Законы общины запрещают убивать своих, это он знает. Но ведь Токити и Хатибэй всё равно бы умерли – так что плохого в том, что он опробовал на них меч? Он имел на это право. Он убил волка, он сильный, а сильный – это тот, кто поступает так, как хочет.
Но Нацуко продолжает кричать и проклинать его, а остальные бросают камни и размахивают дубинками. Значит, надо показать им, каким сильным он стал. Показать, что теперь не он должен их бояться, а они – его!
Вскинув меч так, чтобы прикрыть голову сгибом локтя, Синтаро бросается на односельчан. Старый мусорщик Итиро, оказавшийся на пути, с воплем роняет камень и отскакивает подальше, но стоящий рядом с ним брат Токити, трупожог, успевает вытянуть Синтаро шестом по икрам. Резкая боль подсекает ноги, Синтаро теряет равновесие и летит кубарем в грязь, а сверху на него сыплются беспорядочные удары, и пинки, и проклятия.
Падая, он не выпускает меч из рук, и в этом его спасение. Корчась под ударами, он вслепую тычет перед собой лезвием, полосуя чьи-то топчущие ноги. Крики боли звучат для него музыкой с небес. Один из раненых падает и катается рядом, схватившись за разрубленную ступню, и Синтаро, недолго думая, хватает его и держит, прикрываясь им от остальных.
Град ударов прекращается. Синтаро опирается на раненого и встаёт, держа меч у его горла.
– Сунетесь – убью, – обещает он.
Парень с покалеченной ступнёй корчится у его ног, подвывая от боли. Синтаро даже не смотрит, кто из бывших знакомых подвернулся ему под клинок. Он вообще больше не различает их лиц – в заволакивающем зрение тумане все односельчане сливаются в серую толпу. Но зато они стоят на месте, не пытаясь больше нападать.
Синтаро отступает, волоча за шиворот пленника, но тот слишком тяжёлый и не может идти. Отойдя на пару десятков шагов, Синтаро бросает его и бежит прочь.
Камни летят ему вслед. Иные падают в грязь, иные больно бьют в спину. Один, особенно тяжёлый, сбивает беглеца с ног, чуть не вышибив дух, – но Синтаро поднимается и бежит дальше.
***
– Он, наверное, помер, – говорит незнакомый голос. – Идём, что проку возиться с дохлятиной? Денег у него нет, точно тебе говорю.
– Разуй глаза, – раздражённо отзывается другой голос. – У него меч в тряпках увязан. Парень где-то неплохо поживился. Только ему этот меч уже не нужен, а нам пригодится. Жаль, что без ножен, дороже бы продали.
Когда чужая рука хватается за свёрток, из которого торчит оплетённая шнурами рукоять, Синтаро открывает глаза.
Он и сам не уверен, что ещё жив. Он не может вспомнить, когда в последний раз ел перед тем, как забиться сюда, под навес какого-то придорожного святилища, где не так резко задувает зимний ветер. Он уже давно не чувствует ни рук, ни ног, словно прирос к пустому алтарю и окаменел на холоде, как изваяние Дзидзо.
И всё же прикосновение чужой руки к мечу он осязает так же отчётливо, как прикосновение к собственному телу.
– Живой, – разочарованно говорит склонившийся над ним бородатый мужчина в мохнатом соломенном плаще.
– Ну так прирежь его, – раздражённо отзывается другой, молодой, с пёстрым платком на голове и рябым от оспы лицом. – Чего уж проще-то.
– Да ведь... – Бородач откашливается. – Нехорошо как-то. Храмовая земля же. Эй, малый, может, отдашь меч по-хорошему? Сам понимаешь, нам тебя убить не труднее, чем муху прихлопнуть. Так что не глупи, давай сюда меч и разойдёмся без крови.
Синтаро стискивает окоченевшими пальцами свёрток с мечом и ничего не отвечает.
У бородача широкие плечи и мощные руки. Видимо, и среди настоящих людей тоже есть такие, кто ест мясо. А может, Хатибэй всё наврал, и сила вовсе не в съеденном мясе, а в том, что кто-то рождается волком, а кто-то – быком, предназначенным на убой?
Он слишком устал и запутался, чтобы думать о таких сложных вещах. Его внутренности превратились в кусок льда, его ноги сбиты дорогой, а спина покрыта кровоподтёками от камней. Он больше не чувствует себя сильным, он кажется себе маленьким, одиноким и слабым.
Слабый – это тот, кто умирает.
Синтаро не хочет умирать.
– Да кончай его уже, – рябой сплёвывает на дорогу. – Сколько можно торчать на ветру?
– Сам отдаст, – кривится бородатый и решительно берётся за свёрток. И тянет его на себя.
Перед затуманенными глазами Синтаро словно вспыхивает пламя, ярко-ярко высвечивая фигуру человека, его грубое заросшее лицо и протянутую к мечу руку. И в эту руку, в крепкое жилистое запястье он остервенело впивается зубами.
Удивлённый вопль бородатого ещё звенит в ушах, когда тяжёлая оплеуха сбрасывает Синтаро из-под навеса в ледяную грязь. Свёрток исчезает из ослабевших рук, а потом под рёбра влетает жёсткая, словно копыто, пятка.
– Сукин сын, – бормочет мужчина, отходя от скорчившегося мальчишки. – Спасибо сказал бы, что жив остался.
– Я же сказал тебе: прирежь, – отзывается рябой. – А не будь ты таким мягкосердечным дураком, то и не пострадал бы.
– А ты вообще умолкни!
Насилу разогнувшись, Синтаро шарит руками по земле. Но к тому моменту, как ладонь натыкается на подходящий камень, грабители уже исчезают за поворотом дороги – а у него нет сил, чтобы встать и догнать их.
Слабый – это тот, кто умирает.
Он ещё лежит, отдавая дорожной грязи последние крохи тепла, когда шлёпающие шаги приближаются обратно. Цепкая рука хватает его за воротник, приподнимая голову, рябое лицо недовольно щурится.
– Что за привычка оставлять свидетелей, – бормочет грабитель, вытаскивая из-за пояса нож. – Чтобы потом повстречать их на допросе, всех разом? Ну уж нет, спасибо.
Он отводит руку назад, целя ножом в бок Синтаро. На его левую руку он не обращает внимания, а зря. Прежде чем нож входит в тело мальчишки, подобранный камень – тяжёлый и ухватистый, с острой гранью – бьёт врага в висок, как раз под косынку, и черепная кость звучно хрустит от удара. Это единственный звук в ночной тишине; рябой оседает на землю молча.
Синтаро выдирает нож из расслабившейся руки и кое-как встаёт.
Проходит ещё немного времени, и бородатый опять появляется на дороге. Медленно шагая, он смотрит по сторонам и заглядывает за придорожные кусты, не находя приятеля. Когда их разделяет шагов десять, Синтаро бросается вперёд.
Ему не хватает веса, чтобы сбить взрослого мужчину с ног, но зато у него есть нож. И когда бородатый хватает его за ворот, пытаясь задушить, Синтаро просто всаживает ему между рёбер короткое лезвие, а потом выдёргивает и резким взмахом перерезает горло.
Бородатый валится навзничь, и Синтаро падает вместе с ним. Он победил, но не больше может удержаться на ногах. Все остатки его силы ушли на эту схватку, и теперь глаза закрываются сами, а захвативший внутренности холод переходит в оцепенение. Только растекающаяся по земле кровь обдаёт руку и плечо парным теплом.
Она пахнет горячо и солоно, как мясной отвар.
Грабитель был человеком, но это ничего не значит. Он убит, значит, он был слаб. А слабые в этом мире всегда становятся пищей для сильных. Как быки для Хатибэя. Как Хатибэй и Токити для волка.
Кровь и на вкус солёная. И горячая. Желудок сжимается в мучительной судороге, словно он глотает раскалённый металл, – но потом боль отступает, и остаётся тепло.
Скорчившись рядом с телом убитого им человека, глотая кровь, текущую из разрубленной шейной жилы, Синтаро наконец-то чувствует себя живым.
Сильный – это тот, кто выживает.
***
– Я вижу, что вы благородный юноша, – говорит старик.
Синтаро от неожиданности смеётся. Если дед пытается лестью вымолить себе пощаду, то ему стоил придумать менее грубую лесть. Правда, Синтаро изменился за пять лет, прошедшие со дня его побега из деревни. Но его волосы отросли только до плеч, кожа по-прежнему обожжена солнцем до смуглоты, руки в мозолях, а по загрубевшим подошвам ног сразу видно, что сандалии он носит отнюдь не с малых лет.
С виду его обычно принимают за крестьянина, а когда он с мечом – то за разбойника, и это в целом верно. До сих пор ещё никто не угадал в нём "нечистого". И никто не пытался ему втирать про его сходство с благородными.
– Вы, верно, думаете, что я пытаюсь к вам подольститься, – сухое, как мятая бумага, лицо старика вспыхивает неровными пятнами румянца. – Но я говорю искренне. По вашему лицу видно, что жизнь вас не щадила, но видно и то, что вы родились в хорошей семье. Высокое происхождение не спрятать в лохмотьях. С грабителем без чести и совести я не стал бы и разговаривать, но вы – вы другое дело. Я взываю к вашему великодушию. Убейте меня, если вам угодно, но сохраните жизнь моему господину. Уверяю вас, господин не страшится смерти, но у него есть великая и благородная цель, которая должна быть исполнена. Он не может умереть, не доведя это дело до конца. Молодой человек, если в вас есть хоть капля милосердия, если вам знакомо слово "честь" – отпустите моего господина с миром и позвольте мне умереть вместо него.
Господин, о котором с таким жаром рассказывает старый слуга, лежит в полузабытьи под кустом, скрученный собственным поясом. У него рассечена грудь, но неглубоко; если отвезти его к лекарю, пожалуй, ещё вполне может выжить.
Впервые Синтаро не смог убить одним ударом. Но в этом нет его вины: просто старый меч Токити износился и зазубрился так, что сломался от столкновения с чужим мечом. Синтаро успел полоснуть противника обломком лезвия, а потом тем же обломком выбить из ослабевшей руки оружие. Про старого слугу и говорить нечего: этот не успел даже схватиться за свой меч и пропахал носом землю от одного удара кулаком.
Теперь они оба связаны, как курицы на рынке. Синтаро с сожалением смотрит на одежду самурая: отличное кимоно из светлого хлопка, на которое он так рассчитывал, распорото и пропитано кровью спереди. Отстирать и зашить так, чтобы не осталось следов, не получится. А следы будут вызывать слишком много вопросов.
Одежда слуги похуже и сильнее заношена, но по крайней мере цела. А чтобы он снял её без драки, оставив такой же целой и неповреждённой, приходится повременить с убийством самурая. Пока жизнь господина висит на волоске, слуга будет покладист. Оборвёшь её – и упрямый старикан скорее откусит себе язык, чем подчинится убийце.
Синтаро разбирает вещи самурая и слушает болтовню пленника. Удивительно, насколько разговорчивыми делает людей близость смерти.
– Мой господин – самурай из старинного рода. Его семья не была богатой, но пользовалась доверием князя. Шестнадцать лет назад, когда наш князь пребывал в Эдо, мой господин прислуживал ему. Там он встретил достойную девушку, дочь эдосского самурая, и испросил разрешения жениться. Всего через три месяца после их свадьбы князю пришла пора возвращаться в свои владения, и мой господин должен был сопровождать его, а жена господина осталась ухаживать за престарелой матушкой. Было условлено, что через год господина переведут на постоянную службу в Эдо, ибо госпожа перед отъездом понесла, а наш милостивый князь не хотел разлучать супругов надолго и отрывать отца от ребёнка.
Синтаро перекладывает монеты из потайного пояса в свой кошелёк, не забывая одним глазом посматривать на старика. Очень может быть, что своим рассказом он просто тянет время, пока пытается распутать верёвки. Но Синтаро не беспокоится: узлы прочны, а без господина слуга всё равно никуда не убежит.
– Ещё не истёк условленный срок, как господину пришло письмо от супруги. Она писала ужасные вещи: что её оклеветали, обвинили в поджоге и бросили в тюрьму. Она клялась в своей невиновности и взывала о помощи. Господин был так потрясён, что тотчас покинул дом родителей и отправился в Эдо. Увы, поступив так, он нарушил закон, был разжалован из самураев и стал ронином. Понимаете, сколь многим он пожертвовал, чтобы прийти на помощь госпоже?
Рассеянно кивнув, Синтаро вытаскивает меч ронина из ножен и придирчиво рассматривает. Да, ради этого меча стоило рискнуть. Клинок безупречно чист, ухожен и сияет, как зеркало, волнистый шёлковый узор на стали притягивает взгляд. По сравнению с ним старый меч Токити достоин только плевка. Сразу видно, где настоящее оружие, а где – дрянная железка, украденная у какого-то неудачливого госи.
– Когда же господин добрался до столицы, он не нашёл ни дома, ни своей жены. Соседи рассказали, что дом загорелся среди ночи, и почтенная матушка госпожи погибла в пожаре, а госпожа спаслась, хотя была уже на сносях. А на следующий день в магистрат донесли, что госпожа сама подожгла дом, желая поскорее отделаться от матери и уехать к мужу. – Старик поднимает голову, блестя мутными слезами на щеках. – И тут же нашлись свидетели, подтвердившие эту гнусную клевету. Госпожу бросили в тюрьму и должны были казнить как поджигательницу, но она, к счастью, не дожила до этого. Боги сжалились над ней, она скончалась в тюрьме.
На этом месте Синтаро замечает, что ронин только прикидывается бесчувственным – глаза под опущенными веками двигаются. На всякий случай он кладёт меч поперёк колен. Старик ничего не видит – он слишком поглощён рассказом и слезами:
– Мой господин стал искать того, кто написал донос, и вскоре узнал, что после его отъезда некий чиновник начал преследовать госпожу, пытаясь склонить её к недозволенной связи. Но госпожа берегла честное имя мужа, а соблазнителю пригрозила разоблачением. Тогда он испугался и обвинил госпожу в поджоге, а сам нанял лжесвидетелей и подкупил судей. И я спрашиваю вас, молодой человек, разве такой мерзавец не заслуживает смерти?
Синтаро поднимает голову.
– Заслуживает, – соглашается он.
– Так решил и мой господин. Сделавшись ронином, он не мог просить о кровной мести, да ему и не разрешили бы мстить за жену. Он решил наказать врага сам, но тот узнал о готовящемся возмездии и счёл за лучшее сбежать. С тех пор мой господин не знал сна и покоя. Он обошёл весь остров, от Тохоку до Осаки, и я, ничтожный, сопровождал его в этих скитаниях.
– Вы пятнадцать лет ищете этого чиновника? – удивляется Синтаро. – Да он уже, наверное, давно помер!
– Мой господин каждый день молил Будду продлить дни нечестивца, чтобы иметь возможность прикончить его своими руками, – и вот теперь, спустя столько лет, его молитвы были услышаны. Мы узнали, что презренный враг скрывается в Нагоя под чужим именем, и направились сюда, чтобы завершить свою месть.
Старик неловко дёргает связанными руками и склоняется, утыкаясь седой головой в землю.
– Прошу вас, молодой человек! Не отнимайте у моего господина священное право на возмездие. Оставьте ему жизнь, чтобы он мог покарать злодея, и пусть это зачтётся вам во искупление ваших прошлых грехов!
Синтаро подходит к нему и разрезает верёвки на его руках.
– Раздевайся, – говорит он, не давая пленнику опомниться.
От неожиданности старик замирает с разинутым ртом, но тотчас спохватывается и вновь обретает достоинство.
– Хорошо, – он сокрушённо кивает. – Ради спасения господина это старое тело готово вынести и холод, и позор. – И начинает снимать одежду.
Когда он складывает на траву все вещи и остаётся лишь в повязке-фундоси, едва прикрывающей тощие чресла, Синтаро заходит ему за спину.
– Что стало с ребёнком? – спрашивает он.
Старик хочет обернуться, но чувствует прикосновение холодного лезвия к шее и испуганно замирает.
– Я уже имел честь сказать вам, – его губы трясутся, голос срывается на блеяние, – что госпожа скончалась в тюрьме.
– Умерла родами, верно? – Синтаро щекочет лезвием шею старика, и тот втягивает голову в плечи.
– Послание госпожи задержалось в дороге. Когда господин приехал в Эдо, минул уже месяц со дня её смерти. Ребёнок... разумеется, не мог выжить...
– Почему же? – голос Синтаро мягок, как шёлковая петля. – Дети, рождённые в тюрьме, иногда выживают. Их отдают "нечистым". О них забывают, словно их никогда не существовало. Но они живут. А ты мёртв.
Последнее слово сливается с резким свистом клинка. Меч действительно великолепен: он проходит сквозь шею старика, как сквозь кусок масла, и отрубленная голова отлетает на добрых десять шагов.
Синтаро обтирает лезвие рукавом, подбирает одежду старика и идёт к ронину. Тот лежит на боку, уже не притворяясь беспамятным. Налитые кровью глаза неотрывно следят за Синтаро.
– Ты всё слышал, да? – Синтаро подносит меч к лицу, пытаясь разглядеть в полированной стали своё отражение, потом переводит взгляд на пленника. – Как ты думаешь, старый болтун был прав? Я действительно похож на благородного? Похож на тебя?
Ронин шевелит запёкшимися губами, но голоса нет.
– Ты пятнадцать лет гонялся за убийцей жены, но о ребёнке даже не спросил, так ведь? Я знаю, почему. Ты боялся даже подумать о том, что твой сын лежит в той же колыбели, что и отродье могильщика, и его кормит грудью жена какого-нибудь золотаря. – Синтаро наклоняется к ронину, ловит его беспомощно мечущийся взгляд. – А теперь? Тебе хватит духу признать сына в "нечистом"? Подумай хорошенько. Если ты действительно мой отец – как знать, может во мне проснётся почтение к родителю? Может, я сохраню тебе жизнь?
Лицо ронина застывает, как деревянная маска. Губы кривятся, силясь плюнуть, но в пересохшем рту не хватает слюны. Синтаро разочарованно выпрямляется.
– В этом твоя ошибка. Тебе кажется, что твоё происхождение возвышает тебя надо мной, но это не так. То, что ты рождён самураем, не делает тебя волком. То, что я воспитан париями, не делает меня мясом. Открою тебе одну простую истину: всё решает только сила. Ты умрёшь не потому, что я обижен на тебя, а потому, что ты слаб.
Он наступает ногой на грудь пленника, прижимая его к земле. Примеряется мечом к его шее, не обращая внимания на хрипы и слабеющие рывки.
– Знаешь, мне следовало бы поблагодарить тебя. Если бы ты нашёл меня и забрал с собой, то я вырос бы таким же, как ты. Таким же слабым, ни на что не годным дерьмом. Но поскольку ты дерьмо, мне и благодарить-то тебя неохота.
В верхней точке размаха меч ловит пробившийся сквозь листву луч солнца и вспыхивает, словно объятый пламенем. А потом чертит в падении сверкающую, идеально ровную дугу.
Токити правильно говорил – мастерство приходит с практикой. После пяти лет на большой дороге Синтаро мог бы потягаться в этом искусстве с любым столичным палачом. Но теперь его не прельщают такие мелкие достижения.
Сменив конопляную куртку и короткие штаны на одежду слуги, заткнув за пояс оба меча и собрав волосы в высокий хвост на затылке, Синтаро разглядывает себя в заводи ручья. На самурая он ещё не тянет, а вот на бродячего ронина – вполне. И уже совершенно ничем не похож на "нечистого". Разве только кожа слишком загорелая, но при хорошей одежде это уже не бросается в глаза.
Остаётся только придумать себе новое имя.
***
Ночь уже на исходе, когда они возвращаются в неприметную гостиницу на окраине города, где живут под чужими именами, представившись хозяину самураями из Этидзэн. Кацура великолепно подражает выговору уроженца Этидзэн, Сисио старается не отставать от него, а Баттосай всё время молчит.
Сейчас Кацура устал и тоже немногословен. Кивком поблагодарив обоих спутников за работу, он уходит в свою комнату. Баттосай направляется за ним – место телохранителя рядом с хозяином. В столице, где охотятся Волки, всегда нужно сохранять бдительность, и можно быть уверенным, что Баттосай не сомкнёт глаз, пока Кацура спит.
В распоряжении Сисио – отдельная комната, и он может спать в своё удовольствие, но сейчас задерживается у порога.
– Синта, – окликает он. – Синтаро.
Спина впереди едва заметно напрягается. Хвост рыжих волос скользит через плечо, когда Баттосай оборачивается.
– Синтаро, – с удовольствием повторяет Сисио. Приятно видеть, что и у молчаливого, вечно погружённого в свои мысли Баттосая есть больное место. Слабость, на которую его можно взять, как ходящую в глубине рыбу на донную снасть. – Это ведь и твоё имя тоже, сэмпай?
Баттосай смотрит на него исподлобья. Разговор ему неприятен, это чувствуется, но в спокойных тёмных глазах нет злости или раздражения.
– Меня так звали, – говорит он. – Но это было давно.
– Я так и подумал, – усмехается Сисио. – Детское имя, да? "Син" – как в слове "новичок"? Или как "скромник"?
Баттосай качает головой. Кажется, он не понял, что его дразнят.
– Как "сердце", – серьёзно говорит он. И – на одно только мгновение – в негромком голосе прорезается сталь. – Но я прошу тебя впредь не называть меня так... Сисио.
– Как тебе будет угодно, – Сисио лучится радушием. – Баттосай.
Тот быстро опускает ресницы.
– Весьма признателен.
Провожая его взглядом, Сисио чувствует некоторое разочарование. В конце концов, он в каком-то смысле был поклонником Баттосая. Ещё до того, как они встретились на службе у Кацуры, Сисио с интересом слушал рассказы о невероятном мастерстве легендарного хитокири – и потом был немало удивлён, обнаружив, что почти все эти рассказы правдивы.
В его прежнем имени "син" означало "истина". Он сохранил этот знак, составляя себе новое имя с другим прочтением, но с тем же смыслом.
Макото. Правда, истина, реальность.
Правда – она всегда проста и незамысловата. Так проста, что её поймёт даже ребёнок. Сильный выживает, слабый умирает. Плоть слабого – пища для сильного. Убивай – или будешь убит.
А сердце? Душа? Это не источник силы, это ещё одна красивая ложь.
Уж кто-кто, а он-то знает, что такое сердце на самом деле.
Всего лишь кусок мяса размером чуть больше кулака.
Размер: мини
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Такасуги Синсаку
Категория: джен
Жанр: военная драма
Рейтинг: R
От автора: OVA Tsuioku Hen я смотрела, уже будучи законченным бакуманьяком, поэтому меня страшно торкнули те несколько кадров в финале, где Химура сражается в рядах Кихэйтая при обороне Тёсю. Вообще, странное дело - меня вечно тянет додумывать и расширять мелкие проходные сцены, вроде этого боя под командованием Такасуги, или появления Рёмы в "Реквиеме Патриотам", или истории Эльстена. Но, как бы то ни было, написать что-нибудь про Кэнсина и Такасуги хотелось давно, и я рада, что наконец допинала себя до этого.

...Запах крови преследовал его с того дня, когда он впервые убил человека, приговорённого к "небесному правосудию". Мешал спокойно дышать, отравлял пищу и питьё неотступным привкусом железа. Заставлял до ссадин оттирать руки после каждого выхода на задание и до прорех застирывать красно-бурые пятна на одежде.
Наваждение отступило ненадолго после встречи с Томоэ – и с удвоенной силой вернулось после её смерти. В качестве телохранителя ему больше не приходилось убивать безоружных и неумелых, но кровь самого искусного мечника, сражённого в честном бою, пахнет так же, как кровь слабака-чиновника, зарезанного в тёмном переулке. Кровь всегда пахнет одинаково, даже когда можно сказать себе: "Я защищал себя и своих друзей".
Сейчас его руки снова были в крови, но впервые за долгое время ему было наплевать на это. Косодэ тоже пропиталось насквозь; поначалу мокрая ткань неприятно липла к коже, а потом высохла и задубела. Бурой коркой покрылись и хакама, и наручи-котэ; даже волосы на концах склеились и превратились в жёсткие иглы. А Кэнсин не чувствовал ни тошноты, ни всепоглощающего желания немедленно смыть, отскрести вместе с кожей эту кровавую коросту. Ничего, кроме смертельной усталости.
Тошнота и отвращение перегорели в нём на третьем часу боя, когда они уже не бежали – карабкались на высоту, цепляясь за каждую кочку, за каждое дерево, способное дать хоть минутную защиту от обстрела. Когда ползли по телам врагов и своих же товарищей, усеявшим склон после первой попытки штурма, – а пушки из замка кромсали этот склон десятифунтовыми снарядами, вколачивая живую и мёртвую плоть в красно-бурый глинозём. И где-то там, на полпути к вершине, припав к земле возле выбитой разрывом ямы, в которой клочья мяса и тряпья перемешались так, что было уже не разобрать, сколько тел здесь лежит, – там, вжимаясь в разбавленную кровью грязь, Кэнсин осознал, как мало значит его меч в этой бойне. Как мало значит любой меч под нацеленными дулами заморских орудий.
В Киото он был воплощением ужаса, призраком неотвратимой смерти. Но здесь, на холмах Акасака, пушки замковой артиллерии за два неполных часа истребили больше людей, чем хитокири Баттосай за все три года службы "небесному правосудию". Он знал, как страшна и отвратительна смерть от меча, как один умелый удар превращает живое, дышащее тело в безголовый обрубок или в раскромсанную выпотрошенную тушу. Но вот что может сделать с этим телом летящий кусок чугуна – об этом он раньше понятия не имел. И не представлял, что человека можно даже не разрубить – разорвать на части, как гнилую соломенную рогожу, чтобы оторванные конечности разлетелись в разные стороны.
"Меч Хитэн Мицуруги служит для защиты всех людей," – так говорил наставник. И, убивая по ночам чиновников правительства, хитокири Баттосай мог по крайней мере верить, что отнятые им жизни приближают новую, лучшую эпоху для всех остальных. Что, убивая одного, он защищает многих и многих. А здесь, на холмах Акасака, он никого не мог защитить, потому что вся мощь стиля Летящего Меча была бессильна отразить посланные в них снаряды и пули. Здесь не имели значения сила или слабость, а искусство кэндзюцу не стоило и ломаного мона. Здесь требовалось только упорство, чтобы ползти по изрытому ядрами склону, на котором обломки разбитых деревьев валялись вперемешку с кусками человеческих тел. Ползти и продвигаться вверх, к стенам замка Кокура, который они должны были взять – или проститься с надеждой на победу.
Как раз упорства им и не хватило. Или просто силы закончились раньше, чем боеприпасы у противников. Их смяли числом, снесли вниз со склона, играючи отобрав всё пройденное вверх расстояние, оплаченное полутора сотнями жизней. В первый раз с начала войны командир Такасуги решился атаковать правительственные войска в лоб – и атака захлебнулась в крови.
Кэнсин не был силён ни в тактике, ни в стратегии, когда дело касалось целых армий. Но не требовалось быть великим стратегом, чтобы понять: при таком численном преимуществе, каким обладала армия сёгуна, у Кихэйтая нет шансов победить в прямом противостоянии. И эта атака, попытка взять гарнизон замка на испуг была не более чем жестом отчаяния с их стороны. Они отбили нападение с моря, они потопили вражеский флагман, они сопротивлялись дольше и успешнее, чем можно было ожидать от ополчения мятежной провинции, против которой брошены силы всех верных сёгуну кланов. Но любому везению однажды приходит конец, и даже военный гений командира Такасуги не может вечно творить чудеса...
...Он вздрогнул и прислушался. Нет, не почудилось: из-за полотняной стенки палатки донёсся шорох – и сиплый отрывистый кашель. И влажный звук плевка.
И от этого меч Баттосая тоже не мог защитить. Хотя в битве он держался рядом с командиром, чтобы прикрыть его хотя бы собой, если придётся... не пришлось. Ни пуля, ни осколок, ни вражеский клинок не задели Такасуги. Просто напряжение последних месяцев, дни сражений и бессонные ночи, и тот последний рывок на исходе сил – всего этого оказалось слишком много для источенных болезнью лёгких.
Ему не следовало идти в бой в таком состоянии, он и сам это понимал. Но понимал и другое: чтобы поднять людей в такую атаку, нужно что-то большее, чем приказ остающегося в тылу. А ещё он знал, что за ним Кихэйтай пойдёт как один человек – не только на штурм, но и в самый ад.
Он рискнул.
Из боя его вынесли на руках.
Кэнсин снова напряг слух, но кашля больше не было слышно, только хриплое, сбивчивое дыхание. А потом – негромкий голос:
– Химура.
Он вскочил и метнулся в палатку. Отдёрнул полог, нырнул внутрь. Такасуги сидел на постели, потирая грудь в распахнутом вороте юкаты. При виде Кэнсина он поморщился и покачал головой.
– Позови Ямагату. И... иди умойся. На твою чумазую рожу смотреть тошно.
...Когда Кэнсин вернулся от ручья, на ходу скручивая мокрые волосы в жгут, Ямагата как раз выходил из палатки. Лицо у него и раньше было мрачное, но теперь ещё и озадаченное. На молчаливый вопрос Химуры он только пожал плечами.
– Кто его разберёт, – проговорил он, почёсывая слегка заросший подбородок. Несмотря на разницу в возрасте и положении, с Кэнсином он общался запросто, и остальные офицеры тоже. То ли с подачи Кацуры, то ли сами по себе, но все они как-то быстро признали адъютанта и телохранителя Такасуги за равного. – Отступать пока не хочет. Велел зачем-то зажечь костры по всем лагерям. Как ты думаешь, бредит?
Кэнсин покачал головой.
– Командир не стал бы приказывать, если бы не придумал что-нибудь... – он не смог подобрать слово и неловко закончил: – Что-нибудь.
– Надеюсь, – буркнул Ямагата. Но по его виду не было похоже, чтобы он хоть на что-то надеялся.
Когда он ушёл распоряжаться лагерными делами, Кэнсин пробрался к палатке. Прислушался к похрипывающему, но уже ровному дыханию за пологом и тихо отошёл. Сел рядом, прислонил меч к плечу и позволил себе расслабиться, уплыть в сумрак между явью и пустотой, который вот уже три года заменял ему сон.
Как всегда, показалось, что времени прошло всего ничего – вот только что закрыл глаза, и почти сразу вскинулся на резкий звук кашля. Но вокруг уже было темно, только за деревьями мерцал жёлтый отблеск костров, да сквозь полог палатки пробивался ровный свет лампы – командир не спал.
Непривычная тишина стояла вокруг. Прошлой ночью от костров слышался смех, кто-то напевал вполголоса, чтобы не разбудить спящих, кто-то рассказывал истории, от страшных и печальных преданий о духах воинов Тайра до самых похабных солдатских баек. Сегодня лагерь словно вымер. Сквозь заросли можно было разглядеть тени собравшихся у костра людей, но молчание висело над ними, тяжёлое, как чугунное ядро.
Такасуги снова закашлялся. Потом раздался шорох, короткий стук, на освещённом полотне выросла длинная тень.
Прежде чем Такасуги успел подняться, опираясь на меч, Кэнсин уже проскользнул в палатку. Командир глянул хмуро, но отказываться от помощи не стал, навалился всем весом на подставленное плечо. Утвердившись на ногах, показал подбородком в угол за постелью.
– Подай-ка.
Кэнсин принёс ему чехол с сямисэном. Такасуги заткнул меч за пояс, взял сямисэн в свободную руку и так, придерживаясь за Кэнсина, вышел из палатки.
По мере того, как они приближались к кострам, походка Такасуги менялась, шаг становился твёрже, спина распрямлялась. Когда они ступили в освещённый круг, уже никто не смог бы сказать, что этот человек не может стоять на ногах без опоры – рука командира так легко и расслабленно лежала на плече Кэнсина, словно это он сам поддерживал выбившегося из сил юношу.
Собравшиеся у огня солдаты узнали их и сдержанно зашумели. Во всём Кихэйтае не было человека, который не знал бы командира в лицо: Такасуги проводил среди подчинённых столько времени, сколько мог оторвать от сна и необходимых дел. Чаще всего он приходил вечером – посидеть у огня, спеть что-нибудь новое из сочинённого, пропустить по чашке сакэ на сон грядущий. И у какого бы костра он ни появлялся, туда в скором времени стекалась половина лагеря, потому что его не просто любили – боготворили.
Кэнсина здесь тоже знали, причём не первый год. В Тёсю доходили не все вести из Киото, поэтому здесь редко звучало имя хитокири Баттосая, зато все ветераны с удовольствием рассказывали новобранцам про пацана, который с одного удара разрубил столб на тренировочном поле. И когда Кацура привёз его в Симоносэки, где стоял лагерем Такасуги, – Кэнсина здесь встретили как родного. Мало кто допытывался, где он заполучил свой шрам, зато почти каждый нашёл время подойти и сказать пару добрых слов. Здравствуй, Химура-кун, давненько не виделись. С возвращением, Огонёк.
Такасуги махнул рукой вскакивающим с места солдатам – сидите, мол, – и опустился на край придвинутого к костру бревна. Вокруг него тотчас образовался почтительный круг: все знали, что командир не любит сидеть рядом с кем-то и не терпит тесноты. Правда, не все знали – почему именно.
Он окинул внимательным взглядом серые лица и сгорбленные плечи, воспалённые от дыма и усталости глаза. Сегодняшнее поражение выбило из колеи даже самых жизнерадостных. Кихэйтаю давно не приходилось нести таких потерь.
Но когда Такасуги расчехлил и пристроил на коленях сямисэн, эти лица немного оживились. Командир снова с ними, командир играет – значит, всё идёт по-прежнему и ничего непоправимого не случилось...
Костяной язычок плектра пробежал по струнам, быстрая прихотливая мелодия запрыгала воробьём по веткам. От других костров потянулись люди, привлечённые весёлыми звуками. Такасуги усмехнулся, запрокинул голову к тёмному небу.
– Мы с тобой... – охрипший голос взметнулся и зазвенел, растягивая одну длинную ноту.
И сорвался в глухой кашель.
Кэнсин быстро подался вперёд, готовясь поддержать командира, если тот упадёт. Прошлый сильный приступ с кровотечением был в Симоносэки, но тогда всё удалось сохранить в тайне. Такасуги знал, как солдаты относятся к нему, и меньше всего ему нужна была паника в войске накануне решающего сражения.
На этот раз, кажется, обошлось. Под испуганными взглядами со всех сторон Такасуги отдышался, вытер губы и улыбнулся.
Неубедительно вышло. Люди смотрели на него с тревогой. А некоторые – и с жалостью.
Он поднял оброненный плектр и снова заиграл, выводя знакомую мелодию. Быстро покосился в сторону, нашёл глазами Кэнсина.
– Пой, – хрипло бросил он сквозь зубы.
– Я? – Кэнсин в этот момент как раз нашёл место, где присесть, – и чуть не сел мимо бревна. – Я... я не умею!..
– Тогда пляши.
– Оро?
"Убью," – молча пообещал ему взгляд командира. По ту сторону костра кто-то неуверенно захлопал в ладоши, отбивая такт, и мелодия сямисэна тут же оплела этот ритм какими-то немыслимыми завитушками и вариациями, словно вьюнок, карабкающийся по садовой решётке.
– Пляши, я сказал! – Такасуги дёрнул подбородком и сглотнул, с видимым усилием давя кашель. Но танцующие по струнам пальцы ни на миг не сбились.
На непослушных ногах Кэнсин вышел в круг. Он не представлял, что делать дальше. Для танца вроде требовался веер, но веера у него не было. Только меч, который он зачем-то потащил с собой, забыв оставить у бревна.
В Киото, ещё до того чёрного лета с пожаром, он видел, как люди Кацуры отмечают Новый год. Тогда несколько молодых самураев танцевали с мечами; Кэнсин сначала принял их выступление за какое-то странное ката, но быстро пригляделся и утратил интерес – использованные в танце движения мало подходили для настоящего боя. Теперь он жалел, что не запомнил эти движения, потому что взгляд Такасуги приказывал, а музыка прямо-таки требовала не стоять на месте.
И хлопали уже многие, не меньше десятка человек. И смотрели все – на него.
Освобождая меч из ножен, он ещё сам толком не понимал, что будет делать дальше. Но вес клинка и ощущение знакомо врезающейся в ладонь оплётки рукояти помогли: с мечом в руках он не умел бояться.
Ката? Ну, пусть будет ката...
Он начал с "Пробуждения дракона" в том варианте, в каком впервые разучил его – на половинной скорости. Из сложного там был разве что выход из нижней стойки в "молот", и потом ещё "грива" в самом конце. Для "гривы" требовалось побольше места, но Кэнсин уже прикинул, как поместиться внутри круга.
На первой же цепочке атак он понял, как распределить шаги и удары, чтобы подстроиться под музыку и хлопки. Это и впрямь чем-то походило на фехтование, только в настоящем бою нельзя держать ритм, нельзя быть предсказуемым, а здесь – наоборот... Во второй части он чуть изменил направление, чтобы двигаться вокруг костра, и вышел на "молот" как раз напротив Такасуги.
Из-за недостатка скорости прыжок вышел не слишком высоким, но люди в кругу всё равно заорали и захлопали уже без всякого порядка. Кэнсин про себя порадовался, что наставник Хико не видит этого безобразия, и продолжил. Но теперь он слышал, что и сямисэн играет немного иначе – ритм мелодии сменился, словно подлаживаясь под его движения.
К тому моменту, как настала очередь "гривы", людей вокруг костра заметно прибавилось. Кэнсин опять подгадал, чтобы оказаться на противоположной от Такасуги стороне, – и прыгнул, резко скручивая корпус.
Люди ахнули в один голос, когда он пролетел над костром, сбив и закрутив вихрем пламя, словно на миг завернувшись в огненную пелену, – и встал на ноги перед командиром, не опалив ни единой пряди на голове.
На миг стало тихо – а потом круг взорвался восхищёнными криками и рукоплесканиями, заглушая музыку.
Кэнсин поймал одобрительную улыбку Такасуги. Взглянул на него вопросительно – всё, можно идти?
"Продолжай," – шевельнул губами тот. Слова потерялись среди общего шума, но плектр снова ударил по струнам, отбивая уже совершенно бешеный, не дающий остановиться ритм.
Музыка больше не следовала за взмахами меча – теперь она вела за собой, приказывала и торопила; и Кэнсин бросился в стремительное течение музыки, как бросался когда-то в горную речку по одному знаку наставника.
...Это уже нельзя было назвать ката – в погоне за ускользающим ритмом он нанизывал приёмы в совершенно неправильном порядке, складывая на ходу какие-то головоломные связки, безумные каскады прыжков и подкатов, которыми никогда бы не воспользовался в настоящем бою; и языки огня лишь вспыхивали и трепетали, когда он снова и снова перелетал через костёр под восторженные вопли зрителей. Столпившихся у костра людей стало так много, что Кэнсин едва мог различить края толпы, теряющейся где-то в ночной темноте. Теснясь и толкаясь, запрокидывая головы, люди смотрели на него, и на долю мгновения он увидел себя в их распахнутых глазах, как в тысяче зеркал – живое пламя с летящей гривой рыжих волос, солнечный луч, птица Хоо в огненном оперении... удача и сила, победа и жизнь...
Лишь сейчас ему открылся смысл танца с мечами, который исполняли молодые самураи из Тёсю. В тот раз их движения показались ему нелепыми, потому что не подходили для боя – но теперь он понял, что это, оказывается, может быть просто красиво. Что взмах отточенного клинка может радовать глаз, если он рассекает только воздух и пламя, а не человеческое тело. Что немыслимо сложный прыжок с переворотом может подарить не только выигрышное положение для атаки, но и восторг полёта, пьянящее чувство торжества над природой, обделившей людей крыльями.
Меч – орудие убийства. Искусство меча – искусство убивать.
Да, наставник, я помню. Но в убийстве нет и не может быть красоты; я достаточно убивал, чтобы понять это. А значит, меч – это больше, чем орудие убийства. Потому что и в наших мечах, и в нашем искусстве всё-таки есть красота.
До тех пор, пока она не запятнана кровью.
– ...Командир! Командир!
Кто-то проталкивался в круг, заполошно размахивая руками. Свой, из часовых – но это Кэнсин понял уже позже, а в тот миг, уловив движение, направленное в сторону Такасуги, просто оттолкнулся от земли, бросая тело в новый прыжок; и солдат умолк и споткнулся в десятке шагов от командира, обнаружив, что ему в грудь упирается конец ножен, а перед глазами предупреждающе мерцает заточенное остриё.
Кругом грохнули дружным хохотом. Такасуги, сдерживая усмешку, опустил сямисэн и махнул рукой.
– Не режь его, Химура, он мне ещё нужен.
Солдат, замерший с выпученными глазами, растерянно заморгал. Ему показалось, что юноша, только что наставлявший на него меч, растворился в воздухе, как растворяется пламя, оторвавшись от опоры, – и возник заново рядом с командиром. Но Такасуги не дал ему много времени на удивление:
– Что случилось?
– Разрешите доложить! – опомнился часовой. – Со стороны вражеских укреплений наблюдается движение! Много огней на западном склоне холма!
Кэнсин едва успел подставить плечо – Такасуги вскочил на ноги, как сжатая и отпущенная пружина.
– Общий сбор!
Приказ полетел по рядам, повторённый десятки раз. В центре лагеря ударил барабан. Придерживаясь за Кэнсина, Такасуги другой рукой поймал часового за мундир.
– Веди на пост. Хочу сам посмотреть.
– Слушаюсь! – Солдат вскинул руку к голове и пошёл чуть впереди, показывая дорогу через заросли.
Фонарей с собой не брали – среди темноты даже потайной фонарь видно издалека, а ружья Минье бьют на тысячу шагов, если у стрелка прямые руки. В армии сёгуна хороших стрелков хватало, приходилось быть осторожными. Но сейчас можно было обойтись и без огня – луна ещё не закатилась, озаряя запад, а с востока сереющее небо уже было светлее деревьев.
Они пробрались по тропе к обрыву, где был устроен наблюдательный пост. Часовой ответил на оклик товарища и подвёл командира к валуну, за которым удобно было прятаться. Присев у камня, Такасуги выглянул наружу, и Кэнсин сделал то же самое.
Замок Кокура громоздился над противоположной высотой, упирая в небо разлапистые ярусы цитадели, опоясывая холм ожерельем мощных стен. Отсюда нельзя было разглядеть чёрные рыла его пушек, но даже в темноте, издалека, он внушал трепет.
Сейчас от стен замка ползли неровные цепочки огней. Словно горящие капли, сливаясь в ручейки, медленно стекали по склону холма и скапливались в пологой чаше бухты.
– Готовятся к атаке? – шёпотом спросил Кэнсин.
– Нет, – выдохнул в ответ Такасуги. – Отлив. Корабли.
Кэнсин опасливо посмотрел на командира, борясь с желанием потрогать рукой его лоб – уж больно его слова походили на лихорадочный бред. Но лицо Такасуги было сосредоточенным, в широко раскрытых глазах отражались далёкие отсветы, и казалось, что весь он – мыслью и душой – устремляется к склонам холма, красным от крови его солдат, и к стенам замка, где бьётся невидимое сердце вражеского войска; и если бы мысль могла разить, как снаряд из пушки...
Сначала Кэнсин подумал, что у него просто рябит в глазах оттого, что он слишком долго смотрел на движущиеся огни. Он поморгал, но светлая точка не исчезала из поля зрения. Она висела на башне замка и никуда не сдвигалась.
Потом раздался удивлённый возглас часового:
– Свет! Вижу свет в замке! – и Кэнсин понял, что глаза его не обманывают.
Светлая точка разрасталась и ширилась, перетекая из бойницы в бойницу, словно там, внутри цитадели, восходило солнце. А потом пламя набралось сил – и одним выдохом пробило черепичную кровлю, вставая над башней кроваво-алым столбом.
Это было невозможно. Неприступный замок Кокура, оплот армии сёгуна, – горел, как забытая у очага детская игрушка. А защищавшие его войска слаженно отступали к морю и грузились на корабли под покровом ночи.
Со стороны лагеря донеслись радостные крики – пожар был виден издалека. К ним уже бежали офицеры, растерянные и счастливые, а Такасуги неотрывно смотрел на охваченную огнём цитадель и беззвучно шевелил губами. Потом повернул голову и медленно, как слепой, нащупал плечо Кэнсина.
– Вот и всё, – хрипло выговорил он. – Идём, Химура. Что-то я сегодня устал...
Они пошли к гудящему, как растревоженный рой, лагерю. Кэнсин ступал медленно, примеряясь к неровному шагу командира и думал о том, что Такасуги действительно гений. А ещё – что днём, когда берег будет очищен от врагов, они смогут похоронить всех, кого вчера пришлось оставить на склоне.
А ещё – что эта война наконец-то закончилась. И, если им повезёт, то следующей войны уже не будет.
За их спинами в сереющее небо рвался длинный столб огня.
Название: Судьба синоби
Размер: мини
Пейринг/Персонажи: Синомори Аоси, Окина, ОМП
Категория: джен
Жанр: драма
Рейтинг: R - NC-17
Предупреждение: шок-контент, описание увечий.
От автора: Да, сначала это планировалось на спецквест. Но по некотором размышлении стало понятно, что такую жуть надо выкладывать на рейтинг, а на других левелах нечего людей пугать. Решение было принято уже в день выкладки, так что это самая скоростная из моих работ - то ли три, то ли четыре часа, если не считать того, что завязка была продумана несколько раньше. Сирохэби Гэнто - мой ОМП, в каноне имя предыдущего командира Онивабан никак не обозначено. Ну и Аоси - по-прежнему птенец клана Кока, по моему представлению.

Аоси слушает его внимательно, но без видимого интереса. Его поза свободна, плечи расслаблены, и самый придирчивый взгляд не найдёт в его лице никаких признаков волнения.
Готовность тела, ясность разума, спокойствие духа.
Без этого невозможно быть синоби.
– Правило одно, – в глазах Окины переливается то же спокойствие, но к лицу зрелого мужчины оно подходит больше, чем к нежным чертам двенадцатилетнего мальчика. – Ты всегда можешь отказаться. Служить его высочеству – не привилегия, а тяжкое бремя. Никто не упрекнёт тебя за отказ.
Аоси отдаёт неторопливый, выверенный поклон – ни на сун глубже, чем требует почтение к старшему по возрасту, по званию и по мастерству.
Если бы он поднял голову на секунду раньше, то увидел бы, как на лице Окины сквозь спокойствие блеснула усмешка – и тут же скрылась под густыми усами.
– Следуй за мной.
Он ведёт Аоси длинными коридорами, спускаясь всё ниже, в подземные ярусы замка. Сюда уже не проникает дневной свет, только тусклый свет факелов бросает больные желтушные отблески на каменные стены переходов и на лица караульных.
От тюремного блока они сворачивают в боковой проход. Пока Аоси держит взятый с собой факел, Окина ковыряет ключом в замке потайной двери.
Когда дверь открывается, Аоси не изменяется в лице. Не подносит рукав к носу, чтобы заглушить густое зловоние, исходящее из тесной каморки за дверью.
Готовность тела, ясность разума, спокойствие духа.
Пламя факела освещает внутренность каморки. Порог здесь приподнят над полом и тянется в обе стороны вдоль стены, как узкий деревянный помост, чтобы человек мог войти внутрь, не наступая в груды нечистот.
На полу лежит существо. Такое уродливое с виду, что трудно сразу понять, к какому роду живых тварей его надлежит причислить. Грязной безволосой шкурой, продолговатым телом и четырьмя короткими ногами оно похоже на свинью, но косматая голова, заросшая белёсой шерстью, больше напоминает обезьянью, хотя таких несуразных плоских рыл с мокрыми ямами вместо ноздрей нет даже у обезьян.
Окина берёт прислонённый к стене бамбуковый шест и грязным концом тычет омерзительное создание в бок. Раздаётся странный звук, нечто среднее между хрюканием и рычанием, и существо неуклюже поворачивается, скользя по загаженному полу своими нелепыми конечностями.
И Аоси понимает: это человек.
Готовность тела, ясность разума, спокойствие...
Человек, изуродованный до потери человеческого облика.
Готовность тела. Ясность разума. Спокойствие духа.
Спокойствие.
– Это – то, что ожидает тебя на службе в Онивабан, – говорил Окина. – Это судьба синоби.
Существо, в котором с трудом можно угадать остатки человека, хрюкает и елозит по полу, пытаясь уйти от тычков шеста.
– Он был таким же, как ты, когда пришёл сюда. Юным, красивым и сильным. Лучшим из лучших, достойным называться воином Онивабан. Он служил его высочеству преданно и верно. И, конечно, он ничего не боялся.
Шест хлёстко обрушивается на покрытую шрамами спину, и существо визжит, жалобно и умоляюще. Аоси не меняется в лице.
– Работа Онивабан – шпионить за удельными князьями и пресекать подготовку к мятежам. Но князья, особенно из "сторонних", не любят соглядатаев. И чтобы выразить своё неудовольствие, они делают из пойманных шпионов вот это. Человека-свинью.
Человек на полу мотает головой, издавая невнятные звуки, пока конец шеста перемещается по его изувеченному телу, сопровождая каждую фразу несильным, но болезненным тычком.
– Это занимает довольно много времени, потому что спешка приводит к смерти, а весь смысл в том, чтобы сохранить шпиону жизнь. Начинают с самого простого – отрезают нос. Руки и ноги укорачивают в несколько приёмов, начиная с отрубания пальцев. Обычно на этом этапе человек уже рассказывает всё, что знает. Потому что следующим этапом идёт кастрация, и об этом все знают. Теперь и ты знаешь. Но даже если забудешь, на допросах тебе обязательно напомнят, и не единожды.
Шест безжалостно упирается в подбородок человека, вынуждая его задрать голову.
– Потом выжигают глаза. На этом этапе пытаемый ещё пригоден для допроса, но, как правило, ничего интересного он рассказать уже не может. Самые гордые, самые стойкие и преданные – все ломаются ещё раньше, увидев себя в зеркале. И выдают самые сокровенные сведения за одно только обещание смерти. Но умереть им не дают, потому что остаётся последний этап: протыкание барабанных перепонок и вырывание языка. После этого, само собой, допрашивать человека-свинью бесполезно. Его немного лечат, чтобы раны затянулись, и выкидывают вон, в назидание другим шпионам. Ну, а мы подбираем и привозим сюда. Опять-таки, в назидание новичкам вроде тебя.
Окина смотрит на Аоси пристально и цепко. От него не скрыть ни движения зрачков, ни дрожания ресниц, ни отхлынувшей от щёк крови.
– Посмотри на него внимательно, мальчик. Его жизнь хуже ада. Ни света, ни звука, ни запаха, ни вкуса. Единственное, что он чувствует – удары палки, голод и жажду. Он уже не человек, а животное. Он скулит под палкой и хрюкает, уткнувшись в миску с едой.
Аоси молчит.
Спокойствие духа.
Спокойствие.
Спокойствие...
– Сейчас ты думаешь, что с тобой не может случиться ничего подобного. Ты думаешь, что в подобной ситуации ты окажешься сильнее. Или умнее. Или удачливее. Посмотри на него и пойми: он был таким же, как ты. Он думал так же, как ты. И вот, кем он стал. Бессловесным скотом, лишёным не только достоинства, но и разума.
Окина прислоняет шест к стене и отворачивается от скорчившегося у стены человека.
– Это не проверка на самообладание. Я знаю, что ты хорошо обучен. Ты не поморщишься, даже если я велю тебе пойти и поцеловать его. Но внешнее спокойствие ничего не стоит без решимости. Мне нужно от тебя одно: пойми, что, выбирая Онивабан, ты выбираешь для себя именно такую судьбу. И для тебя неизбежно настанет день, когда ты проклянёшь свой выбор. Пойми это всем сердцем – и тогда спроси себя ещё раз. Как я уже говорил, ты всегда можешь отказаться. Я знаю, у тебя достаточно и ума, и дисциплины, и ты не станешь вводить в заблуждение меня или, тем паче, себя. Завтра утром ты дашь мне честный ответ, в полном согласии чувств и разума.
Дверь закрывается, оставляя каморку и её обитателя в темноте. Ключ проворачивается в замке.
***
Поздно ночью Аоси снова проходит по тому же коридору. У него нет факела, да это и не нужно: синоби достаточно слуха и осязания, чтобы передвигаться даже в полной темноте.
Факел есть у часового, охраняющего тюремный блок. Но его привыкшие к свету глаза не могут разглядеть маленькой гибкой тени, скользящей среди теней, и когда пальцы Аоси сжимают нужную точку на его шее, он теряет сознание, не успев даже удивиться.
Украденный ключ входит в замок без скрежета, дверь отворяется тихо. Аоси шагает с порога в удушливый мрак.
Под ногами хлюпает, когда он пробирается к дальней стене, откуда доносится чужое дыхание.
Его глаза ничего не видят, и хотя бы в этой темноте они на время равны – он и его безымянный собрат, заточённый здесь, преданный своими же товарищами по оружию, которые могли освободить его от мучений – но не пожелали.
Дыхание становится громче. Присев, Аоси протягивает левую руку на звук и касается спутанных волос.
Он пока ещё не знает ответа на вопрос, который задал ему Окина. Но одно он знает точно: нельзя оставлять человека в таком положении.
Правая рука Аоси вынимает из гнезда на поясе кунай. Ему известно, в какую точку надо ударить, чтобы убить быстро и без боли. Жаль, что у этого человека не было под рукой куная в нужную минуту – иначе ему не пришлось бы пережить всё это.
Человек испуганно всхрапывает и возится, чувствуя чужое присутствие. Аоси заносит нож.
И медленно опускает руку.
Нет.
Не так.
Только скот живёт и умирает, не имея власти над своей судьбой. Человек – выбирает. Каждым поступком, каждым решением, принятым в этой и предыдущих жизнях – выбирает своё будущее.
Это – человек. Пусть он не видит и не слышит, не может высказать свою волю вслух или написать её рукой. Но он – вправе – решать.
Аоси кладёт руку на иссечённую, липкую от грязи спину человека. Гладит, успокаивая его прикосновением. А потом прикладывает к его правой щеке раскрытую ладонь, к левой – лезвие куная.
Человек замирает без движения. Тёплая живая ладонь касается его лица справа. Холодная твёрдая сталь – слева.
Аоси ждёт, считая удары сердца, и минута кажется ему долгой, как жизнь.
Человек вздыхает. И коротким, но однозначным движением поворачивает голову влево, нажимая щекой на лезвие.
Аоси отводит волосы с его шеи, открывая затылок. Дыхание человека становится частым, он издаёт слабый прерывистый звук, похожий одновременно на смех и плач.
– А?
Это первое осмысленное восклицание, которое Аоси слышит от узника, и в хриплом скрежещущем голосе звучит вопрос.
– А?
И Аоси проводит пальцем по его спине, рисуя три знака каны: А-о-си.
Синоби имеет право знать, кто лишит его жизни.
Человек кивает. Один раз – коротко, в знак согласия и принятия. Второй раз – глубоко, склоняя голову к полу.
Аоси понимает и этот знак.
Нож по рукоять входит в затылок, в ту точку, где позвоночник сочленяется с черепом.
Человек умирает так, как должен умирать синоби – без единого стона.
Достойный конец.
***
– Что ты можещь сказать в оправдание своего поступка?
Вопрос задаёт не Окина, а высокий худощавый мужчина, сидящий в глубине комнаты на высокой подушке. Сирохэби Гэнто, командующий Онивабан. Предводитель стражей замка Эдо, личный телохранитель его высочества.
Окина сидит по правую руку от него, на открытой в сад энгаве. Его лицо бесстрастно, и о глубоком огорчении говорит лишь угрюмый наклон головы.
Аоси стоит на коленях на колючем гравии сада. Сегодня он уже не кандидат в Онивабан, а преступник под арестом, и в присутствии таких людей, как командующий и десятник, его место – ниже самого низкого.
Его руки свободны, но это не имеет значения. Он не опозорит себя бегством, тем более бессмысленным, что в саду, невидимые среди зарослей, скрываются другие синоби. Может быть, не такие умелые, как он, но они сильны и их больше.
Аоси склоняется, касаясь земли сложенными ладонями.
– У меня нет оправданий, командующий. Я сделал это без приказа и позволения, по собственному желанию. Моё своеволие не может быть прощено.
– Жизнью и смертью синоби в этом замке распоряжаюсь я. Человек, которого ты лишил жизни, был синоби. Ты повинен не только в нарушении приказа, но и в убийстве.
"Если он был человеком и синоби, – хочется крикнуть Аоси, – то не следовало обращаться с ним, как со скотом!"
Но, разумеется, он не кричит.
Он поднимает голову, смотрит в глаза командующему – прямо и ясно. Слова не нужны. Достаточно взгляда и тяжёлого медленного кивка.
Нож, прервавший жизнь безымянного синоби, лежит на краю энгавы. Протягивая за ним руку, Аоси чувствует спиной множество внимательных взглядов. Но никто не препятствует ему взять оружие. Всё правильно. Обычный человек, преступивший закон, может заплатить жизнью, ссылкой или деньгами. Синоби – только одним способом.
Готовность тела. Ясность разума. Спокойствие духа.
– Ты не жалеешь? – неожиданно спрашивает Окина. Вдвойне неожиданно – потому что ему не должно быть дела до сожалений осуждённого преступника, и потому что говорить без разрешения в присутствии вышестоящего – невежливо.
Аоси прислушивается к себе. Правдивый ответ слишком дерзок, чтобы его можно было произнести перед лицом командующего. Но если не сказать правду сейчас, то – когда?
– Я сожалею лишь о том, что не смогу послужить его высочеству в рядах Онивабан. И о том, что не смогу однажды занять место командующего, чтобы изменить в порядках Онивабан то, что должно быть изменено.
Ему кажется, что за спиной, откуда исходят чужие взгляды, кто-то громко выдохнул. Но это, наверное, померещилось. Синоби не может быть настолько несдержан. А лицо командующего по-прежнему спокойно, и в тёмных глазах нет гнева или удивления.
– Хорошо сказано.
Удивлённый похвалой, Аоси на миг теряет сосредоточение. Приходится сделать несколько медленных вдохов, пока его руки развязывают пояс и распахивают одежду на груди.
Синоби может умереть десятком более быстрых и лёгких способов, чем вспарывание живота. Но Аоси должен показать, что его намерения были чисты, а сожаление о необходимости нарушить приказ – искренне. Даже если придётся обойтись без посторонней помощи.
– Стой!
Приказ звучит в тот момент, когда рука Аоси заносит нож, направляя его остриём в левое подреберье.
Он замирает, выжидательно вскинув голову.
– Положи оружие, – говорит командующий.
Нож падает на гравий. Аоси ждёт, сложив руки на коленях, стараясь удержать то состояние пустоты и внутренней ясности, в котором его учили идти в бой и на смерть. Получается плохо: мысли против воли прорываются в голову, разрушая с трудом достигнутое равновесие.
– Ты принят.
Аоси не двигается с места. Он уверен, что слух обманывает его – уже во второй раз. Командующий не может оставить его в живых. Не после того, что Аоси сделал и, главное, – что он сказал.
– Ты слышал? – говорит Окина. – Отвечай командующему, как должно.
Теперь Аоси кажется, что его подводит не только слух, но и зрение. Потому что Окина улыбается, и его усы топорщатся от нескрываемого удовлетворения. И командующий тоже улыбается – тонким, едва уловимым изгибом сжатых губ.
А это уже совершенно невозможно.
Но выучка берёт своё, и он снова склоняется, положив ладони на белый гравий.
– Недостойный благодарит за оказанное доверие.
– Ты прошёл испытание, – говорит командующий, и сейчас уже нельзя ошибиться, потому что в его голосе тоже звучит усмешка, незлая и снисходительная. – Правда, прошёл его так, как никто до тебя не додумался.
– И вряд ли додумается в будущем, – добавляет Окина.
– В будущем таких испытаний не будет, – обрывает его командующий. – Но об этом мы поговорим в другой раз. И не здесь.
Аоси, не удержавшись, поднимает голову.
– Хочешь о чём-то спросить? – Командующий всё ещё улыбается. – Разрешаю задать один вопрос.
– Недостойный хотел бы знать имя того, кто умер этой ночью от его руки.
– Зачем? – улыбка исчезает быстро и неуловимо, как выскользнувшая из рук рыбка.
– Он был достоин того, чтобы его имя помнили.
Командующий молчит. Вместо него отвечает Окина:
– Сирохэби Тодзи. Младший брат командующего. И мой ученик.
***
Когда Аоси уходит – ступая очень прямо и твёрдо, чтобы не пошатнуться на подгибающихся ногах – командующий поворачивается к Окине.
– Ещё одно чудо-дитя... Где ты таких находишь?
– Кока, – с гордостью говорит Окина. – Старая школа. Вы оценили выдержку? Неплохо для его возраста, а?
– Это и странно. С таким самообладанием у него должна быть душа из камня и характер из стали. А он слишком мягкий. Идёт на поводу у своего сердца.
– И всё же ему хватило твёрдости сделать всё по-своему.
– Я бы назвал это дерзостью, а не твёрдостью.
– Как скажете, командующий, – Окина с напускным смирением склоняет голову. Он притворяется, и Гэнто знает, что он притворяется, но эта старая игра уже вошла у них в привычку.
– Какая у него боевая подготовка?
– Владеет почти всем арсеналом Кока, но предпочитает ближний бой – кинжал и кодати. Очень хорош в кэмпо. Как-нибудь посмотрите на него на тренировке – не пожалеете.
– Посмотрю. – Сирохэби поднимается с подушки; текучей красоте его движений позавидовала бы и настоящая змея. – И даже более того. Я сам буду его тренировать.
– Решились наконец взять ученика?
Когда это необходимо, Окина прекрасно скрывает свои чувства. Радость в его голосе завёрнута во столько слоёв вежливого интереса, что только чуткий слух командующего может её различить.
– Сложение у него подходящее, двигается хорошо. Если за него взяться с умом, он может ещё превзойти меня.
– С парными кодати?
– Не только.
Командующий Онивабан, страж замка Эдо, смотрит на сад, блестящий свежей зеленью под лучами утреннего солнца. На белый гравий двора. На короткое жало метательного ножа, забытого перед энгавой.
– Он действительно может стать командующим, – говорит Сирохэби. – Если сможет окружить своё сердце достаточно прочной бронёй. Если нет – то его мягкость однажды разорвёт его изнутри. Он умеет ценить людей, и это хорошо. Но он не умеет их терять.
– Он научится, – возражает Окина. – Мы все учимся этому, рано или поздно.
– Да, – Сирохэби прикрывает глаза и слушает тишину; сегодня ночью ему, впервые за долгое время, не будут сниться глухие стоны из подвала замка. – Лишь бы ему не пришлось учиться раньше, чем он будет к этому готов.
Название: Майский рассвет десятого года Мэйдзи
Размер: мини
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Кацура Когоро, Сисио Макото и исторические персонажи за кадром
Категория: джен
Жанр: драма
Рейтинг: R
От автора: Это можно расценивать как парную историю к "Лунной ночью после боя". По крайней мере, подробности ухода Кэнсина из армии здесь расписаны по одному и тому же хэдканону. Доделывала под занавес, торопилась, поэтому конец скомкан безбожно. Может быть, позже перепишу, может, оставлю как есть - пока не решила.

Страха нет. Он никогда не верил в призраков, и даже дыхание смерти за спиной не сделало его суеверным. Он прекрасно понимает, что ночные гости – всего лишь воспоминания, порождения его собственного разума, сгорающего на медленном огне лихорадки. Если крикнуть, позвать жену или врача – эти тени растают, изгнанные ярким светом и голосами живых людей. Но он никого не зовёт. Кацура Когоро, которого в годы революции называли гением побегов, знает, что пытаться убежать от своих мыслей – самое бессмысленное занятие на свете.
Он улыбается этой пришедшей на ум банальности – и улыбка, словно в разбитом зеркале, отражается в лице человека, сидящего на пороге комнаты. Белое, почти прозрачное лицо Такасуги похоже на череп, скулы и челюсти туго обтянуты кожей, бесцветные губы кривятся в ухмылке. Рука с тонкими паучьми пальцами поминутно стирает текущую изо рта струйку крови, и молчит на полу сямисэн с разбитой декой.
– Что ты сделал с моим отрядом, Когоро? – невесёлый хриплый смешок шелестит в тишине, как смятый лист бумаги. – Я надеялся на тебя. Думал, что оставляю ребят в хороших руках.
Прости, молчит Кацура. Я должен был найти другой выход, не доводить ситуацию до взрыва. Но оказалось, что без тебя Кихэйтай неуправляем. Я не смог добиться для них признания – и не смог удержать их от протеста, когда надо было набраться терпения. Год, два, и мы смогли бы обойтись без крови. Моя вина, что я не был в нужном месте, когда в совете клана решали вопрос о подавлении мятежа. Не я подписал им приговор, но эти сто жизней – на моей совести, потому что я воевал вместе с ними, а те, кто приговорил их – нет.
Рёма не улыбается. Смотрит хмуро, недовольно сдвинув тяжёлые брови. Вьющиеся волосы растрёпаны, как всегда; по бокам – выбились из кое-как завязанного пучка, на лбу – слиплись в кровавый колтун. Из раскроенного черепа стекают вязкие алые ручейки, застывают на щеках, срываются каплями с подбородка.
– Кацура... Сайго... – лица почти не узнать под маской запёкшейся крови, но глаза сверкают так же ярко, как при жизни. – Что же вы творите, а? Сколько можно убивать друг друга?
Прости, молчит Кацура. Я знал, что опасность близко, но не угадал, с какой стороны она придёт. Старался приглядывать за Волками – и проглядел то, что находилось под самым носом. Надо было принимать в расчёт всё – честолюбие Окубо, воинственность Сайго и твою собственную проклятую беспечность. И не отсылать Химуру в Осаку, когда он был так нужен в Киото.
Прости – в конце концов я всё-таки сбросил тебя со счетов. Примирился с твоей смертью, как с неизбежной потерей. И когда участие Сайго и Окубо открылось, я уже слишком крепко был с ними повязан. Я мог поднять шум, затеять расследование, заставить их потерять лицо... но у нас была на руках страна. И я промолчал, зная, что ты – простил бы...
– Да не обо мне речь, – сердится Рёма, мотая головой, и кровь из раны течёт по его лицу тёмными смоляными сгустками. – Ты, Сайго, Окубо... Три умных человека, а договориться без пушек не смогли? Не нашли ничего лучше, чем снова войну затеять?
Он расстроенно взмахивает рукой. При жизни он никогда не думал о себе и после смерти не научился. Но чужая глупость – а войну он считает величайшей глупостью на свете – просто выводит его из равновесия. Смешно, но он обижен на Сайго и Окубо не за то, что они навели на него убийц, а за то, что не смогли удержаться от свары после его смерти.
– У "людей благородной цели" принято предавать тех, кто служил их делу. – Сисио Макото подносит кисэру к чёрным губам, затягивается и выдыхает тонкую струйку дыма, не обращая внимания на языки пламени, бегущие по его рукам, по волосам, по пропитанной маслом одежде. – Только вас, Кацура, я полагал счастливым исключением из этого правила. Но вы вполне убедительно доказали обратное. Отдаю вам должное: здесь вы меня переиграли. Я не думал, что вы сможете так убедительно изображать благородство, пряча нож в рукаве.
Молчи, шепчет Кацура, комкая угол подушки в кулаке. Я перед многими виноват, но это предательство ставлю себе в заслугу, а не в вину. Если ад существует, я его заслужил – но и тебе там давно было приготовлено место. Да, я использовал тебя, потому что если бы ты не убивал для нас – ты убивал бы нас. Тебе было всё равно, кого и за что убивать. Ты рвался наверх, предлагая свои услуги Окубо и Сайго, и я знал, что как только они подпустят тебя к власти – всё, что мы пытались построить, рухнет.
Я не буду оправдываться тем, что действовал во благо страны, и мне не нужны отговорки и смягчающие обстоятельства. Я не жалел тогда, что отдал приказ покончить с тобой, и не жалею теперь.
Сисио смеётся, запрокидывая голову. Исчерна-красная обугленная кожа на его лице лопается, словно кожура забытого в жаровне каштана, и пламя мгновенно слизывает выступившую в трещинах кровь.
– Умные мысли приходят в светлые головы одновременно, не так ли? Вам не нужен был хитокири, который слишком много знал и готов был поделиться вашими секретами с другими участниками альянса. А им не нужен был ваш хитокири, который знал не так уж много, но успел насолить Сацума ещё до заключения союза. Не все обиды списываются одним росчерком кисти на мирном договоре. – Языки огня пляшут в такт безумному смеху, обдирая с тела Сисио слой за слоем – осыпается сажей одежда, сворачивается почерневшими лоскутами кожа, а под ней шипит и пузырится оголённая плоть. – А может быть, Окубо просто боялся, что вы узнаете правду об убийстве Сакамото и не пожелаете проглотить её молча? Может быть, он хотел быть уверен, что не встретит этого человека однажды в тёмном переулке? – Обгоревшая до костей рука с зажатой трубкой указывает в сторону окна.
Кацура уже знает, кого он увидит там. Но всё равно медлит, прежде чем посмотреть в ту сторону.
Он всегда появляется последним. Ни в чём не упрекает, не поминает прошлое – молча сидит в углу, прислонив меч к плечу. Или стоит в просвете распахнутой на веранду двери, иногда только угадываясь за занавеской – безмолвная тень со склонённой головой. Как сейчас.
Он молчит – и слова извинений, даже произнесённые мысленно, не идут у Кацуры с языка.
...Его так и не нашли после боя. Остался только меч, воткнутый в землю на том месте, где его видели в последний раз. И какое-то время Кацура тешил себя мыслью, что Химура просто ушёл. Исчез, как давно хотел исчезнуть, навсегда порвав с прошлым, со своей кровавой работой и с сомнительной славой хитокири Баттосая.
А потом он узнал, что не только на Сисио в тот день шла тайная охота. Что кроме отряда стрелков из Тёсю, которых он послал с приказом о ликвидации, на поле боя был отправлен и другой отряд – из Сацума. С точно таким же приказом, но с другой целью.
Он много раз думал, можно ли было вовремя предвидеть этот ход. И не находил однозначного ответа. Тогда самым важным казалось сохранить союз, не допустить внутренних разногласий, пока Токугава и их сторонники не выведены из игры окончательно. Но, может быть, именно его готовность идти на уступки ради общего дела развязала руки Окубо?
Теперь уже поздно гадать о том, как можно было поступить. Когда отпущенное тебе время так коротко, все многословные рассуждения отпадают, и остаётся суть: ты привёл мальчишку к смерти. Окубо устранял созданного тобой хитокири Баттосая, но жертвой оказался Химура Кэнсин...
Вот он, стоит у двери на веранду, знакомо склонив голову и опустив глаза, точно живой. И можно молчать, можно каяться и просить прощения – но исправить ничего нельзя...
– Вы... не спите?
Шелест занавески, прохладное дуновение ветра с открытой веранды – и он уже в комнате. Застывает у постели, смотрит сверху вниз на Кацуру и вдруг кланяется – низко, уважительно.
– Простите, господин Кацура. Я не знал, что вы нездоровы, я был... далеко.
Кацура моргает. Проводит рукой по горящему лбу, пытаясь отделить бред от яви.
Гаснет в вихре кружащихся лепестков бескровное лицо Синсаку.
Отдаляется, тает в морском тумане поникшая фигура Рёмы.
Рассыпается жирным пеплом тень Сисио Макото.
Химура не исчезает.
Он стоит у постели, и смотрит с тревогой и участием, и пытается улыбнуться – но видно, с каким трудом даётся ему эта улыбка при взгляде на бывшего лидера Патриотов, а ныне отставного министра и в скором времени – покойника. В очень скором времени, если верить тому, что врач шепчет жене, а не тому, что он говорит в лицо пациенту.
Кацура рассматривает гостя с жадным удивлением. Он почти не изменился за десять лет, словно время остановилось для него. То же лицо с чистыми, почти девичьими чертами и с крестообразным шрамом на левой щеке. Такие же длинные волосы и падающая на глаза чёлка. Вот только взгляд – удивительно мягкий, без привычной колючей холодности. Да одежда – заношенная до дыр и не раз залатанная.
И – меч за поясом. Он ненавидел своё дело, так почему снова меч, неужели даже после запрета он не может расстаться с оружием?
"Неужели я его так сильно искалечил?"
– Химура, – он старается говорить спокойно, чтобы не разбудить спящую в соседней комнате жену. – Я не думал, что увижу тебя в живых.
– Простите, господин Кацура. Я... мне не следовало тогда уходить, не попрощавшись.
– Погоди, – просит Кацура. – Так ты ушёл сам? И не знал, что тебя пытались убить?
Химура отводит глаза.
– Знал. И... плохо подумал о вас тогда. Простите меня, пожалуйста.
– Боги, – Кацура не выдерживает и смеётся, хотя смех отдаётся ударами кузнечного молота в висках, – боги и предки, да прекратишь ли ты извиняться? Я втянул тебя в грязное дело, сделал убийцей, не уберёг от предателей... и это ты ещё просишь у меня прощения?
Голова болит немилосердно, но с каждым словом с души словно падает камень. И дышать становится всё легче и легче.
– Господин Кацура, – Химура смотрит на него тепло и как-то очень по-взрослому, – простите ещё раз, но вы неправы. Это не ваша вина. Я всегда знал, что меч – это орудие убийства. Я пришёл в Кихэйтай, собираясь убивать. На поле боя, да, – но так ли велика разница? Вы дали цель для моего меча, и... вы были честны со мной. Всегда. А то, что я сам плохо понимал, куда стремлюсь и чего ищу, – в этом никто не виноват, кроме меня.
Он протягивает руку, и Кацура сжимает его жёсткую тёплую ладонь, удивляясь её силе – или своей слабости.
Из приоткрытой двери на веранду льётся рассеянный утренний свет.
Двое слушают, как дождь шелестит по листьям, осыпая сад шёлковой моросью, и монотонно вскрикивает кукушка.
@темы: Меч и сердце, Записки на бумажном журавлике, Колокольчик на гербе, револьвер за пазухой, Трёхструнная баллада
Размер: ~22000 слов
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Кацура Когоро, Сайто Хадзимэ, Сагара Саноскэ, Такани Мэгуми
Категория: джен
Жанр: драма, ангст, херт-комфорт, детектив
Рейтинг: PG-13
От автора: Одна из двух работ, написанных прицельно по заявкам с Инсайда. Просили что-нибудь про сотрудничество Кэнсина и выживших Синсэнгуми в эпоху Мэйдзи. читать дальшеСначала все мысли крутились вокруг того, как, собственно, можно организовать им выживание. Даже если прописать начало АУ до событий в Нагарэяма - Кондо, сотрудничающий с правительством Мэйдзи, был бы совершенно неубедителен в моём понимании. Ещё более неубедителен был бы Хидзиката, пошедший на мировую после казни Кондо. Собственно, весь затяжной пролог и флэшбэки далее по тексту - результат попыток сочинить обоснуй для Волков, прижившихся в Мэйдзи. Обоснуй получился многосуставчатый и сложный, но по-другому не получалось.
Основной сюжет слепился очень быстро и совершенно не в том виде, в каком предполагался изначально. В первом приближении это должно было быть расследование убийства Рёмы; планировалось как-нибудь пристыковать это к откровениям Имаи и посмертному оправданию Кондо. Но сюжет никак не связывался - мешал отъезд Кацуры в Америку, да и период бродяжничества Кэнсина в этом случае выпадал напрочь. А мне нужен был Кэнсин с неразрешённым внутренним конфликтом, который в конце концов разрешился бы уходом, отказом от работы на правительство. В итоге текст забуксовал на стадии пролога и покушения. А потом на горизонте замаячил спецквест, и внезапное скрещивание ежа с ужом, то есть с вепрем, прошло неожиданно гладко, и нашлось место для Сано с Мэгуми, и... короче, в этом виде оно мне нравится существенно больше первоначальных планов.
(Не считая того, что я позорнейшим образом перепутала имя отца Мэгуми - в смысле, забыла, что у него уже было имя в каноне, и сочинила его заново).
С храмом Го-о вообще получилась почти мистика. На спецквест нам выпал "кабан (вепрь)", я схватилась за голову, но народ в команде сказал "окнорм", так что пришлось смириться и идти копать матчасть. После длительного плавания в гугле мелькнула история Вакэ-но Киёмаро, за которую я ухватилась всеми лапами - ну, вы понимаете, Хатиман, вепри, самое то. И даже святилище этому Киёмаро в Киото стоит - то есть, в крайнем случае, можно сочинить какую-нибудь зарисовочку про Баттосая, сидящего в засаде у храма Го-о среди каменных вепрей. На том я и остановилась. А через непродолжительное время, раскопав совсем для других целей пересказ "Пылай-меча", наткнулась на замечательный факт: оказывается, войска Тёсю при нападении на дворец в 1864 г (тот самый "инцидент у Запретных врат", закончившийся печально известным пожаром в Киото) выбрали точкой сбора именно храм Го-о. Совпадение - нарочно не придумаешь. Я даже не поверила, полезла проверять - действительно, тот самый храм, к западу от территории дворца, рядом с воротами Хамагури.
Примечание: целым текстом можно скачать здесь, для любителей транскрипции Хепберна - здесь.

Уцуномия, 1-й год Мэйдзи (1868)
Перед воротами его ещё раз обыскали, проверяя, не спрятан ли в рукаве или за пазухой револьвер. Потом завязали глаза сложенным вдвое платком.
– Может, и руки связать? – заикнулся тот, что стоял справа.
– Не велено, – оборвал его другой. – Открывайте!
Кэнсин услышал, как распахиваются, грохоча петлями, тяжёлые створки. Жёсткая ладонь толкнула его в спину между лопаток.
– Топай давай.
Он пошёл вперёд. Расположение ворот он помнил, и в открытый проём вступил, не задев плечом створку. Во дворе приостановился, и тут же чужая рука взяла его за локоть.
– Сюда, – судя по голосу, это был кто-то третий, не из тех, кто встретил его за воротами. Но Кэнсин узнал даже не голос, а походку – длинные пружинистые шаги, за которыми непросто угнаться, не переходя на бег.
А ведь говорили, что его то ли ранили, то ли вовсе убили под Фусими. Впрочем, Кэнсин не очень-то верил слухам: Сайто Хадзимэ был слишком хорошим бойцом, чтобы позволить убить себя в затяжной беспорядочной свалке, каковой обернулось первое открытое сражение армии сёгуна с силами Са-Тё.
– Лестница, – предупредил голос. Кэнсин нащупал ногой ступеньку, прикинул её высоту – и ровно, не оступаясь, пошёл вверх.
Рука придерживала его, направляя на поворотах. В спину дышали другие конвоиры. Сейчас, когда зрение не отвлекало, он даже ярче ощущал их присутствие – два чадящих огонька враждебного интереса, окрашенного желтоватым туманом усталости. А Сайто, идущий справа, казался холодным непроницаемым пятном в пустоте.
Скрипнула раздвижная дверь, потянуло свечным теплом и запахом разогретого воска. Платок соскользнул с глаз.
Кэнсин стоял в небольшой комнате, в прошлом служившей, видимо, местом ожидания для тех, кто искал аудиенции у владельца замка. Сейчас здесь было пусто, расписные ширмы свалены у дальней стены, циновки ободраны. Из обстановки остался только длинный столик с письменным прибором.
Человека, сидящего за столом, Кэнсин видел всего дважды, оба раза – в бою. Но лицо было не из тех, что быстро забываются.
– Господин Баттосай, чему мы обязаны вашим визитом? – Тон его был ровным, почти приветливым, но ненависть горела в нём даже не огоньком – слепящим алым факелом с чёрным смоляным шлейфом. Хотя по лицу нельзя было заметить ничего, кроме очень сдержанной, очень вежливой неприязни.
Хидзиката Тосидзо, заместитель командира Синсэнгуми, умел держать себя в руках.
– Господин Хидзиката, – Кэнсин сел на пол, отдал короткий формальный поклон. Сайто бесшумно обошёл его и расположился сбоку от Хидзикаты и чуть впереди – так, чтобы не мешать разговору, но иметь возможность в любую секунду перекрыть линию атаки. Конвоиры остались за спиной, и Кэнсин чувствовал их взгляды, как нацеленные в спину ножи.
На что только рассчитывал господин Кацура, когда посылал его сюда? Каждый из присутствующих в этой комнате скорее поверил бы в восход солнца на западе, чем в мирные намерения хитокири Баттосая, ночного палача, наёмника лоялистов.
"Всё, что от тебя требуется – говорить правду".
– Я здесь по приказу Кацуры Когоро, командующего разведкорпусом императорской армии. Мне поручено передать вам его предложение о сдаче крепости и доставить ему ваш ответ.
– Ответ отрицательный. Если это всё, то вы напрасно потратили моё и своё время.
– Вы ещё не выслушали, что вам предлагают.
– Меня это не интересует. Хотите взять крепость – попытайтесь. Ручаюсь, вам эта попытка обойдётся дороже, чем нам.
– Позвольте говорить прямо. Крепость вам не удержать, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Возможно, вы продержитесь ещё несколько дней до подхода основного корпуса Са-Тё. Но после этого вас сметут. Даже если каждый из вас убьёт по десять наших солдат, командование смрится с такими потерями ради возвращения крепости. А господин Кацура всего лишь хочет избежать бессмысленных жертв. Почему бы вам не обдумать его предложение?
– Откровенность за откровенность. Если Кацура что-то предлагает, значит, это ему выгодно. А то, что выгодно Кацуре, не может быть на руку сторонникам Токугава.
– Сдача крепости сейчас выгодна и вам. Оставшись здесь, вы погибнете без всякого смысла. Оставив Уцуномия, вы сможете присоединиться к своим союзникам в Айдзу. Господин Кацура готов удовлетвориться сдачей крепости и артиллерии. Взамен вы сохраните людей и оружие.
– Ценность этой крепости не в стенах и пушках, и Кацуре это прекрасно известно. Если он хочет получить Уцуномия, пусть сразится за неё. Нам есть чем его удивить.
Кэнсин до боли закусил губу.
Эта затея была безнадёжной с самого начала. И то сказать, какой из хитокири дипломат? Смех, да и только.
Но господин Кацура почему-то считал иначе.
"Если бы их требовалось обмануть, я не послал бы тебя. Но у Хидзикаты прекрасная интуиция, на ложь он не поведётся. Возможно, это покажется тебе странным, но против этого человека лучшее оружие – искренность. А ты – единственный из моих доверенных людей, кто хочет мира больше, чем мести. Остальные, даже если попытаются, не смогут скрыть свою ненависть к Синсэнгуми. Только ты можешь быть искренним, призывая их к мирному соглашению. Это опасное задание, потому что они ненавидят тебя больше, чем кого-либо из Патриотов, и могут не сдержаться. Если ты окажешься от этого задания – я пойму".
"Что будет, если я откажусь?" – спросил тогда Кэнсин.
"Дождёмся подхода основных сил и начнём штурм, – ответил Кацура. – Кроме тебя, ни у кого нет шансов на успех, так что не стоит и рисковать".
"Я пойду," – сказал Кэнсин.
– Господин Хидзиката. – Смотреть в эти ледяные глаза было трудно, но не смотреть – выглядело бы слабостью. – Кроме предложения о сдаче, мне поручено также передать вам вот это. Возможно, после прочтения вы измените своё мнение.
Под неотрывным взглядом Сайто Кэнсин медленно поднялся, сделал пять шагов вперёд и положил на стол письмо. Во время обыска он вынул его из-за пазухи и держал в руках, чтобы его не помяли. Теперь сложенный конвертом лист бумаги лёг перед Хидзикатой – лицевой стороной вверх, чтобы была видна оттиснутая красной тушью гербовая печать с листьями мальвы. Кэнсин вернулся на прежнее место и сел.
В глазах Хидзикаты метнулось замешательство. Письмо, запечатанное знаком Токугава, не могло оказаться в руках парламентёра из вражеского лагеря; Кэнсин видел, как любопытство в нём борется с недоверием. И всё же любопытство победило: Хидзиката почтительно взял письмо двумя руками, поднял перед собой и развернул.
Читал он долго. Куда больше времени, чем требуется, чтобы пробежать глазами два десятка строчек изысканного курсивного начертания.
Кэнсин знал содержание этого письма почти наизусть. Ответ клана Токугава на просьбу Кацу Кайсю о помиловании Кондо Исами, осуждённого на казнь.
Заступничество бывшего сёгуна было последней надеждой для командира Синсэнгуми. Люди клана Тоса жаждали его смерти, но князь Тоса, Яманоути Ёдо, ещё недавно был ревностным сторонником сёгуна. Если бы представители Токугава упросили князя Ёдо взять Кондо под защиту, его ещё можно было бы спасти...
"Кондо Исами более не является вассалом Токугава. Его деяния против императора заслуживают осуждения. Поступайте с этим человеком на ваше усмотрение".
Когда Хидзиката опустил листок, его лицо было похоже на лицо мертвеца – такое же белое и застывшее; и пылающий факел ненависти в нём опал, придавленный свинцово-тяжкой безнадёжностью.
– Это ничего не значит, – глухо проговорил он. – Я понимаю, чего добиваются твои хозяева. Вы думаете, что это, – он бросил письмо на стол, – заставит меня забыть о верности Токугава. Но верность не измеряется ответными милостями. Долг вассала – следовать за господином, даже если господин отрекается от него. Я знаю, что Кондо Исами был самым верным из вассалов Токугава. Я не сомневаюсь, что он умер, как самурай, преданный господину до последнего вздоха.
– Вы ошибаетесь, господин Хидзиката, – Кэнсин на секунду задержал дыхание перед тем, как выложить последний козырь. – Кондо Исами жив.
Тишину, что окутала комнату после этих слов, можно было резать ножом. Хидзиката ничего не сказал, даже не подал виду, что услышал Кэнсина, – но чтобы узнать цену его спокойствия, достаточно было взглянуть на руку, судорожно комкающую письмо с отказом в жизни, и на бешено бьющуюся жилку на мраморном виске.
Кэнсин заговорил сам – потому что не было сил и дальше тянуть это выматывающее душу напряжение.
– Как видите, это письмо так и не попало по назначению. Военный суд всё ещё ждёт ответа от представителей Токугава. Пока ответа нет, приговор не будет вынесен. За это время господин Кацура успеет подать собственное ходатайство о смягчении приговора за недостатком улик. Видите ли, господин Кацура уверен, что ваш командир не имел отношения к убийству Сакамото Рёмы. И он собирается приложить все усилия к тому, чтобы обвинители прислушались к его мнению.
– Синсэнгуми и клан Тёсю всегда стояли по разные стороны меча. А теперь вы пытаетесь убедить меня, что Кацура забыл о своих друзьях в "Икэда-я" и готов защищать Кондо Исами перед судом? Или он думает, что может заставить нас подчиниться, держа жизнь командира в своих руках? – Кривая усмешка Хидзикаты вмещала больше презрения, чем плевок в лицо. – Тогда передайте ему, что со мной бесполезно играть в заложников. Кондо знал, что его ждёт в плену, но он сдался, чтобы мы могли продолжать сражаться. Выполняя его волю, мы не сложим оружия, пока живы. В Синсэнгуми каждый готов к смерти, и уступок не будет.
Кэнсину потребовалось большое усилие, чтобы удержать голос ровным.
– Вы ошибаетесь. Господин Кацура пытается спасти жизнь Кондо не для того, чтобы угрозами принудить вас к повиновению. Он всего лишь хочет прекратить ненужные сражения. И он осознаёт, что после смерти вашего командира все попытки примирения будут бесполезны. Договариваться следует, пока не пролилась кровь.
– Она уже пролилась. После Тоба-Фусими мы похоронили многих. И Кацура ожидает, что мы так легко забудем про эти смерти?
Кэнсин вскинул голову.
– У нас тоже было много погибших, господин Хидзиката. И далеко не все из них пали с оружием в руках, имея возможность защищаться. Многих замучили и казнили в тюрьмах, многих принудили покончить с собой, некоторых... просто убили. У господина Кацуры тоже есть за кого мстить – в том числе и вам. Он мог бы не просить о переговорах, а предоставить вас вашей судьбе.
– Прекрасно. Почему бы ему так не поступить?
– Потому что он хочет избежать ненужных жертв. Кто бы ни погиб завтра или послезавтра при штурме Уцуномия – это будут японцы. Не важно, из какой партии и из какого клана. Сакамото-сэнсэй... – Кэнсин сглотнул непрошенный комок в горле. – Сакамото-сэнсэй говорил, что японцы не должны убивать друг друга в такое время, когда им надо сообща противостоять иноземцам. Господин Кацура был бы рад, если бы удалось прекратить эту бессмысленную войну.
– Я не согласен с господином Кацурой. Война за правое дело не может быть бессмысленной, даже если поражение неизбежно. А мы – как знать? – ещё можем и победить.
Кэнсин молчал, исчерпав все доводы.
Он смотрел на Хидзикату и видел красные от бессонницы и дыма глаза, ранние морщины в углах жёстко стиснутых губ, мелкие прорехи на чёрном мундире и посеревший от пыли и копоти шейный платок.
Он видел человека, который устал, смертельно устал от сражений, безуспешных и бессмысленных, как попытки вычерпать море, – и всё же ни за что не согласится признать себя побеждённым. Он изойдёт кровью, но будет снова и снова биться о стену, пока не разобьётся вместе со всеми, кого увлёк за собой в погоню за мечтой, которая была бы прекрасна, не будь она лжива..
Сквозь привычное безразличие Кэнсина вдруг обожгла злость – на себя, не способного объяснить, и на этого человека, не способного увидеть свою ошибку.
– Господин Хидзиката. Я слышал, что до образования Синсэнгуми вы были крестьянином из Тама. Это правда?
– Да, – спокойно признал Хидзиката. – Что это меняет?
– Я тоже родился крестьянином. И я не могу понять вашего желания защищать сёгунат. Ведь мир, который построили Токугава – это мир самураев, предназначенный для самураев. Наверное, тогда, в эпоху Сэнгоку, даже такой мир был лучше, чем бесконечная резня. Наверное, этот мир был хорош и для вас, раз вы так ревностно сражаетесь за него. Но для меня и многих таких, как я, он был плох.
Кэнсин осознал, что стискивает кулаки, и заставил себя разжать руки.
– Я видел, как умирают от голода и болезней люди, виновные только в том, что не родились самураями. Я видел, как дочерей продают в рабство за долги отцов. Как рубят головы детям, перебежавшим дорогу княжескому кортежу. Вы бы хотели сохранить тот мир? Мир, в котором ваши друзья и близкие из Тама – не больше чем грязь под сандалиями самураев?
– Ты!.. – один из конвоиров за спиной дёрнулся в сторону Кэнсина, но тут же умолк, осаженный коротким взглядом Сайто. Хидзиката не сдвинулся с места и ничего не сказал. С его бесстрастного лица можно было бы ваять образ будды.
– Мне, в общем-то, повезло, – Кэнсин осознавал, что его занесло, но остановиться уже не мог. – Меня спас и приютил странствующий мастер меча. Вам тоже повезло – вы родились на земле сёгуна, где крестьянам не запрещают носить оружие. Вы наделены силой и умом, вас оценили по достоинству. Но вы так рвались стать самураем, что забыли нечто важное.
– Вот как? – Хидзиката чуть откинулся назад, разглядывая Кэнсина, как забавного говорящего зверька. – И что же я, по-вашему, забыл?
– Вы забыли, что на этой земле есть и другие люди, кроме самураев. Есть те, на чью долю не выпало вашей удачи, и их гораздо больше. Сакамото-сэнсэй хотел, чтобы эти люди смогли жить как люди, а не как бессловесный скот. Господин Кацура хочет того же. Мне казалось, что такой человек, как вы, выросший в крестьянской семье, сможет лучше понять наши устремления. Но я ошибался. – Кэнсин поднялся с места. – Прошу простить мою невежливость.
– Как ты смеешь! – Шипящий голос сзади принадлежал тому самому конвоиру. – Подонок, убийца, и тебе ещё хватает наглости говорить с командиром в таком тоне? Твоей голове место на колу у ворот! Господин фукутё, позвольте...
– Нет. – Хидзиката оборвал говорящего одним жестом. – Ни слова больше. Хитокири или нет, но он пришёл на переговоры и должен покинуть крепость живым и невредимым. Сайто, проследи за этим.
Кэнсин на миг прикрыл глаза.
"Покинет крепость живым"? Ну, что ж...
Не подав виду, что заметил оговорку, он поклонился Хидзикате. Дождался, пока Сайто набросит ему на глаза платок, и вышел из комнаты.
***
Его провели назад тем же путём – по лестнице, по двору и к воротам. Под надсадный скрип створок Сайто снял с него платок и отступил на шаг. Кэнсин кивнул ему на прощание и не торопясь пересёк линию ворот.
Он и не сомневался, что покинет крепость живым. Вопрос был в том, что произойдёт дальше.
За ним наблюдали со стены и через бойницы цитадели. Он мог бы точно сказать, сколько именно ненавидящих взглядов устремлено ему в спину сквозь ружейные прицелы.
Не оборачиваясь, он пошёл через поле к темнеющему вдали лесу, считая про себя шаги.
Десять, двадцать, тридцать...
От первых деревьев на опушке его отделяли примерно шестьсот шагов. Не предел дальности для хорошей винтовки в умелых руках.
Сорок, пятьдесят, шестьдесят...
Если Хидзиката хочет послать Кацуре внятный и однозначный ответ в виде трупа парламентёра, ему не придётся даже приказывать. Достаточно не запрещать. На этих стенах и за бойницами предостаточно людей, у которых чешутся руки рассчитаться с Баттосаем за погибших товарищей – и далеко не все так принципиальны, как Сайто, которому подавай личный поединок, и никак иначе...
Он чуть не улыбнулся при мысли о том, сколь горькое разочарование постигло бы Сайто, если бы ему представился случай взглянуть на новый меч Баттосая.
Уже сто шагов. Что-то они не торопятся. Впрочем, времени у них ещё достаточно.
...А дипломат из него и впрямь никудышный. Выходит, одной искренности мало, нужен ещё и дар убеждения. Хороший урок на будущее – если его будущее продлится дальше, чем конец этого поля.
Сто тридцать, сто сорок, сто пятьдесят...
Он не боялся смерти и не жаждал её – просто загадал, как в детстве загадывал, улетит ли божья коровка с вытянутого пальца: если он дойдёт до опушки живым, Хидзиката сдаст крепость.
Если нет, Кэнсина это уже не будет волновать. Но всё же будет жаль – не себя, а тех людей, чьей кровью будет оплачено упрямство их предводителя.
Двести шагов.
Вчера он спросил господина Кацуру: а что дальше? Если Хидзиката согласится, оставит Уцуномия и уведёт своих людей в Айдзу? Ведь война не закончится со взятием одной крепости, пусть и удачно расположенной?
"Ты прав, – ответил Кацура. – В этих переговорах важна вовсе не крепость. Мне просто нужно, чтобы Хидзиката осознал: с нами можно иметь дело".
"Я не понимаю..."
"Я тоже раньше не понимал, пока не увидел, как это делает Сакамото. Вспомни, как он помирил нас с Сацумой. Он начал с того, что предложил нам торговать. Добился, чтобы мы увидели в них партнёров, с которыми можно договориться, а не врагов. Я хочу, чтобы Хидзиката понял, что с нами можно договориться".
На трёхсотом шаге Кэнсин всё-таки обернулся. Ощущение чужих взглядов притупилось, но не исчезло. Кто-то за этими стенами по-прежнему хотел убить его, и тем сильнее, чем дальше он отходил.
"Значит, эта крепость будет... вашей торговлей?"
"Да. Если Хидзиката примет нашу цену и уйдёт из Уцуномия, он будет знать, что мы держим слово и честно выполняем свою часть сделки. И я очень надеюсь, что он передаст это знание князю Мацудайра Катамори".
"Правителю Айдзу?"
"Ему самому. Катамори прислушивается к мнению этого человека. Когда мы подойдём к Айдзу и предложим ему решить дело мирным путём, одно слово Хидзикаты о том, что нам можно верить, будет стоить тысячи клятвенных писем".
"Мне кажется, Сайго не захочет предлагать им мир".
"Я тоже этого опасаюсь. Клан Сацума настроен на войну, им мало захвата Эдо. Но если мы возьмём Уцуномия без единого выстрела, это заставит даже Сайго прислушаться к нам. Как бы ему ни хотелось громкой победы над Айдзу, он в первую очередь практичный человек..."
Четыреста шагов. Больше, чем он надеялся пройти.
Хотелось верить, что Хидзиката всё-таки прислушался к его словам. Но с его стороны бы слишком самоуверенно думать, что получасовой разговор сможет перечеркнуть четыре года взаимной резни, когда Синсэгуми выслеживали и без колебаний убивали людей из Тёсю, а по ночам умирали сами, наткнувшись в тёмном переулке или в безлюдной роще у храма на меч хитокири Баттосая.
Слишком много крови пролилось с обеих сторон, чтобы это можно было изменить одной демонстрацией мирных намерений.
Пятьсот.
Но если бы только удалось...
Если бы ему удалось убедить этих людей прекратить бессмысленное кровпролитие – это хоть отчасти искупило бы те реки крови, что он пролил в Киото.
И, может быть, ту кровь, что пролилась от его руки, хотя и не по его воле...
Пятьсот пятьдесят.
Пятьсот шестьдесят.
Пятьсот семьдесят.
Немного не дойдя до опушки, он замедлил шаги.
В канаве на краю луга собралась дождевая вода, и из мокрой почвы пробился ирис – нежно-лиловый, с каплями росы на шелковистых лепестках.
Остановившись, Кэнсин долго смотрел на цветок. Ветер перебирал тонкие лепестки, над узорным венчиком стояла в воздухе красная стрекоза, раскинув мерцающие в непрерывном трепете крылья.
Выстрела не было.
Глава 1
Их ждали за поворотом к роще Куроянаги. Удобное место: слева длинная стена усадьбы, пустующей с окончания войны, справа – заросли цепкого ивняка и покрытый камнями склон холма. Захочешь – не сбежишь.
Чужое присутствие Кэнсин уловил издалека, за добрую сотню шагов. Возвращаться назад было уже бессмысленно, да и опасно: умные убийцы в таких случаях оставляли лучших бойцов в той стороне, куда должна была убегать жертва. Поэтому Кэнсин только передал Кацуре фонарь и высвободил правую руку из рукава хаори – к европейской одежде он так и не привык.
– Сколько? – Кацура понял его без лишних пояснений.
– Не меньше пяти. – Он не был уверен: ощущение было слабым, и чувства противников, хоть и враждебные, тлели неровно, как угольки под слоем пепла. – Держитесь за мной, пожалуйста. У них могут быть не только мечи.
– Понял.
Прошло немало времени с тех пор, когда государственный советник Кидо Такаёси был заговорщиком по имени Кацура Когоро, предводителем мятежников, за чьей головой охотились все сторонники сёгуната, начиная от Мимаваригуми и заканчивая Волками Мибу. Но старые привычки отживают медленно – и сейчас, при первых знаках опасности, Кацура сделался так же собран и немногословен, как в прежние годы.
Кэнсин не ускорял шага. Сердце застучало чаще, но это не было волнением – просто кровь быстрее побежала по жилам, разогревая тело перед боем. Мир вокруг оставался всё таким же серым, точно подёрнутым тонкой паутиной безразличия; только взгляды из темноты обжигали сквозь эту паутину, как раскалённые иглы.
Старая ива, покосившаяся в сторону дороги, под луной отбрасывала тень, падающую от подножия холма до стены, словно вытянутая рука. Когда до неё оставалось не больше двух десятков шагов, от руки отделились пять пальцев – тени людей, что выскользнули из-под свесившихся веток один за другим.
– Советник Кидо! Готовьтесь к смерти!
Они напрасно потратили время на то, чтобы огласить свои намерения: Кэнсин уже бежал к ним, и последнее слово слилось с глухим ударом стали в живое тело.
Позади него Кацура поставил фонарь у стены и отступил в сторону, заняв место между телохранителем и стеной, но за пределами светового круга. Теперь за него можно было не беспокоиться, если только держать нападающих в поле зрения и не давать оттеснить себя от Кацуры.
К счастью, у них были мечи, а не револьверы. И дрались они неплохо, но даже не на уровне рядовых Синсэнгуми. Если бы не необходимость держаться между ними и Кацурой, схватка закончилась бы, не успев начаться. А так – к тому моменту, как Кэнсин уложил третьего в канаву, первый снова зашевелился и начал вставать. Пришлось добавить ему по голове, чтобы лежал тихо.
Кэнсин уже разворачивался к двум оставшимся противникам, когда затылок снова пронзило горячей иглой.
Враг. Один. Далеко, за деревьями, за пределами досягаемости – но его кэн-ки горел ярко и сосредоточенно, как в момент атаки, словно он – оттуда – мог нанести удар...
Не меч.
Ружьё.
Времени ещё хватало, чтобы уйти с линии выстрела. Но в том и заключается трудность работы телохранителя, что бывают моменты, когда уворачиваться никак нельзя.
Кэнсин лишь сдвинулся на полшага влево, чтобы быть уверенным, что стрелок не достанет Кацуру. Дальше важно было только не терять скорости. Хлестнувший по ушам грохот выстрела, тупой и жгучий удар пули, тяжесть в мгновенно онемевшей руке – всё это уже не могло остановить его; за то время, пока враг снова целился, Кэнсин успел пролететь половину разделявшего их расстояния. Уловил, как ярость переходит в замешательство, потом в страх – тот явно не ожидал, что человек, вооружённый лишь мечом, побежит прямо на него. Услышал второй выстрел – пуля стригнула по зарослям, никого не задев, стрелок уже паниковал и не мог поймать мушку. Ещё три шага – и Кэнсин был рядом с ним.
Стрелок вскочил из укрытия за поваленным бревном, попытался выстрелить ещё раз, в упор. Но прежде чем он нажал на спуск, Кэнсин ударил дважды: по стволу ружья снизу, сбивая прицел, и тут же – под вскинутую руку противника, поперёк груди.
Тот рухнул, согнувшись – и Кэнсин в изумлении опустил сакабато: у его ног лежал ребёнок.
Стрелку было лет двенадцать, не больше.
Кэнсин упал на колено, трясущейся рукой – левая не слушалась – перевернул лёгкое тело на спину. Мальчишка дышал неровно, но глубоко, не хрипел, и на губах не было крови. У Кэнсина отлегло от сердца. У детей тонкие кости, и удар, рассчитанный на взрослого, мог переломать юному стрелку половину рёбер, но мальчишка оказался крепок.
Как он вообще оказался здесь? Кто втянул ребёнка в это гнусное дело?
Дети... дети не должны становиться убийцами!
Со стороны дороги донёсся звон оружия, чей-то невнятный крик, и – словно камнем в спину ударило: Кацура! Он оставил Кацуру одного!
Голова опасно закружилась, когда он вскочил, но вниз по склону бежать было легче и быстрее. Кэнсин с разгону выскочил прямо к стене, где Кацура отбивался от последнего из нападающих.
Хотя... кто от кого отбивался – это ещё вопрос. По каким-то лишь ему одному известным причинам Кацура перестал носить меч как раз в тот год, когда Кэнсин стал его хитокири. Но длинная и тяжёлая трость, окованная медными кольцами, отлично подходит для того, чтобы отражать удары и разбивать чересчур горячие головы, а мастер Синдо Мунэн-рю и без меча остаётся мастером, даже если в последние годы у него было маловато практики...
– Химура, сзади!
Уворачиваясь, Кэнсин обругал себя за потерю бдительности. Схватка с мальчиком выбила его из сосредоточения, он перестал ощущать поле боя – и чуть не попался под удар со спины.
Под удар, которого не должно было быть, потому что противник, которого Кэнсин минуту назад свалил, не мог так просто встать и продолжить бой. А он уже был на ногах и атаковал. И двигался совсем не так, как положено человеку, которого рубанули хоть и тупым, но стальным мечом по голове, по плечу и по коленям.
Кэнсин ушёл от первого выпада, второй отразил цубой, на третьем взмахе ударил на опережение, с силой вытянув нападающего по рёбрам, чтобы уже наверняка поднялся не скоро. И едва успел прикрыться от атаки следующего противника, тоже не желающего лежать спокойно.
Это было какое-то наваждение. Такого не случалось за все четыре года с тех пор, как Кэнсин сменил катану на сакабато. Меч с обратным лезвием, хоть и не рубил, но наносил серьёзные ушибы и даже ломал кости, надёжно отбивая способность к сопротивлению. А эти люди как будто не чувствовали боли и поднимались снова и снова, бросаясь в бой с такой исступлённой яростью, словно их собственная жизнь стоила не больше старого медяка.
Новый приступ головокружения напомнил о неперевязанной ране и о том, что затягивать бой сейчас – непозволительная роскошь. Кэнсин отпрыгнул и прижался к стене, выиграв себе краткую передышку. Кацура, видимо, тоже понял, что с телохранителем что-то неладно, и вовремя пришёл на помощь, врезав тростью по рукам одному из врагов. Ещё через секунду он уже стоял рядом с Кэнсином у стены, прикрывая его с левой стороны.
Один из нападающих остался лежать под ивой, но остальные четверо опять были на ногах – и приближались с мечами наизготовку. В свете чудом не затоптанного фонаря их лица лоснились от обильного пота. Расширенные глаза блестели странно и ярко, как у сгорающих в лихорадке, и, глядя в эти безумные глаза, Кэнсин осознал, что остановить их тупым мечом, возможно, не удастся.
Будет глупо – мелькнула мысль, – если четверо увальней, в которых словно демоны вселились, расправятся с двумя мастерами фехтования; и всё потому, что один из мастеров зарёкся брать в руки меч, а другой – убивать...
Кацура предупреждающе крикнул и отбил тростью летящий слева клинок; сталь скрежетнула по медной оковке и застряла, расщепив дерево. Прежде чем противник Кацуры успел высвободить оружие, Кэнсин ударом сакабато переломил его меч надвое.
Вместо того, чтобы отступить, обезоруженный с глухим рычанием бросился вперёд, вцепился руками в трость Кацуры и свалил бы его на землю, если бы Кэнсин не ударил безумца сзади по голове. И тут же отшатнулся обратно к стене, уворачиваясь от удара его напарника.
Теперь осталось только трое – но силы заканчивались быстрее, чем враги. Кровь пропитала рукав и капала с локтя; решать надо было быстро. Для того, чтобы остановить этих людей раз и навсегда, не требовалось даже отнимать у кого-то заточенный меч – достаточно было перевернуть сакабато острой стороной вперёд.
Достаточно было решиться убить.
Принося свою клятву, он не думал, что может настать день, когда его сил окажется недостаточно для того, чтобы защитить Кацуру...
– Ни с места! Полиция!
Пронзительный звук свистка отразился эхом от стены, и темноту прорезали огни фонарей. Они надвигались справа, от поворота, преградив дорогу частой цепью.
Всё-таки безумие не совсем овладело нападающими. Услышав окрик и завидев приближающийся патруль, они бросились прочь от огней, в другую сторону, где дорога сужалась, уходя вниз под откос.
И оттуда, из тёмного прохода между стеной усадьбы и зарослями, навстречу им сверкнули мечи.
Несколько быстрых ударов почти слились в один. Ошибиться было нельзя: Кэнсин слишком хорошо знал этот звук, с которым отточенное лезие разрывает тело. Только один из беглецов успел вскрикнуть перед тем, как всё стихло.
Кэнсин опустил сакабато, ставший вдруг неимоверно тяжёлым. Огни фонарей приблизились вплотную, но светлее не стало. Вокруг словно сгущался чёрный туман; он оперся на стену, борясь с подступающей к глазам темнотой.
Кацура подхватил его под руку, усадил на землю.
– Кто-нибудь, помогите! – приказал он. – Мой телохранитель ранен.
Вокруг началась суета. Кэнсин почувствовал, что с него стащили хаори, освобождая плечо. Из тумана выплыло худощавое лицо с острыми, точно ножом прорезанными чертами; свет фонарей отражался в узких глазах янтарно-жёлтыми искрами.
Ну, конечно. Можно было и раньше догадаться – какое ещё подразделение носит мечи вместо сабель?
– Сколько было нападающих? – спросил Сайто... то есть нет, Фудзита. Давно пора запомнить.
– Шестеро, – ответил за Кэнсина Кацура. – Пятеро с мечами, ещё один там, в роще, с огнестрельным оружием.
– Американская винтовка, – поправил Кэнсин, с трудом ворочая языком. – Стрелок... ему лет двенадцать. Не убивайте его, он не опасен.
– Вижу, что не опасен, – хмыкнул Сайто. Другой человек, возившийся с плечом Кэнсина, как раз наскоро стягивал рану какой-то тряпкой, пытаясь остановить кровь. – Если сам не полезет в драку, не убьём.
– Господин Фудзита! – окликнул кто-то из темноты. Сайто недовольно обернулся. Подбежавший к нему полицейский держал в руках мятую красную ленту.
– Там, в зарослях нашли. Других следов не видно.
– Мальчик, – Кэнсин помотал головой, но туман не желал рассеиваться. – Там был мальчик.
– Нет никакого мальчика.
Это было последнее, что он услышал перед тем, как туман накрыл его тёмной тяжёлой волной и потащил на дно.
Глава 2
Кэнсин уже успел забыть, как это паршиво – просыпаться наутро после ранения. До сих пор он только однажды получал серьёзные раны, и это было шесть лет назад. Но в тот день погибла Томоэ, и боль от этой потери рвала его на части изнутри, и по сравнению с ней все телесные страдания казались неважными.
Теперь это осталось в прошлом, и душу окутывало привычное безрадостное спокойствие – а вот телу было плохо, настолько плохо, что в первую минуту Кэнсин пожалел, что очнулся. Во сне он хотя бы не чувствовал раздирающей плечо боли. И жажды, от которой рот покрылся сухой коркой изнутри. И тошноты. И этой мерзкой слабости, будто расплавляющей кости и мышцы.
Он не привык чувствовать своё тело настолько бесполезным.
Свет, проникающий в комнату через оклеенное бумагой окно, был красноватым – значит, он проспал без малого сутки. Кэнсин попытался повернуться на бок и обнаружил, что его левая рука согнута в локте и примотана бинтами к телу. Повязки плотно охватывали плечо от шеи до подмышки, перекрещивались на груди. Он на пробу пошевелил пальцами – они двигались, хотя от каждого напряжения мышц боль становилась острее.
Со второго раза ему удалось повернуться на здоровый бок и сесть. Рядом с постелью на столике стояла чашка с водой. Пока Кэнсин осушал её торопливыми глотками, дверь в комнату открылась.
– Уже проснулись, господин Химура? – Мацумото-сэнсэй подошёл к постели и присел рядом. – Я рад.
– Сэнсэй, – Кэнсин поклонился, насколько смог; затёкшее тело плохо слушалось, и каждое движение отдавалось в плече, как удар по забитому в тело гвоздю. – Сожалею о доставленных вам хлопотах.
– Это моя работа. – Сухие жёсткие пальцы врача тронули его лоб, потом помяли запястье, ловя пульс. – Как вы себя чувствуете?
– Плечо болит. И... можно мне ещё попить?
– Нужно. И обязательно поесть. Предвосхищая ваш следующий вопрос – с рукой всё будет в порядке. Конечно, потребуется время, чтобы мышцы полностью восстановились, но, думаю, вы сможете владеть мечом не хуже, чем прежде.
Кэнсин снова склонил голову.
– Я понимаю, Мацумото-сэнсэй. Благодарю вас за заботу.
– Не за что. – Скупая улыбка Мацумото отдавала горечью. – Благодарите свою удачу, что пуля не перебила кости и не разорвала сухожилия. Вы необыкновенный счастливчик, господин Химура. Хотел бы я, чтобы всем моим пациентам так везло, как вам.
– Не скромничайте, сэнсэй, – откликнулся Кацура, входя в приоткрытую дверь. – Мы вам очень обязаны.
Он низко, в пояс, поклонился врачу. Мацумото ответил почти таким же глубоким поклоном.
– Сейчас принесут чай и ужин, – сказал он, выпрямляясь. – Лекарства и указания насчёт их приёма я оставил вашему домоправителю. Завтра я приду сменить повязки, а до тех пор – лёгкая пища, обильное питьё и постельный режим по возможности. Если ночью поднимется жар – холодные примочки и опять-таки питьё. Отдых и покой – вот, что сейчас требуется господину Химуре. С остальным его тело справится само.
Когда Мацумото вышел, Кацура сел у постели. У него был усталый вид, под веками легли серые тени, и белки покраснели, словно за прошедшие сутки он так и не сомкнул глаз. А впрочем, скорее всего, так и было.
– Вы в порядке? – не удержался Кэнсин.
Кацура криво усмехнулся.
– А с чего бы мне не быть в порядке? Это вроде бы не меня подстрелили вчера ночью. И не из меня после этого битый час выковыривали пулю. – Его взгляд скользнул по перевязанному плечу Кэнсина. – Признаться, я боялся самого худшего. Но Мацумото-сэнсэй своё дело знает.
Кэнсин молча кивнул.
...Мацумото Рюдзина он, как и Кацура, он глубоко уважал – и это при том, что Мацумото был человеком Айдзу, личным врачом князя Мацудайры Катамори и убеждённым сторонником сёгуната.
Когда войска Са-Тё подступили к Айдзу и князь Катамори, вняв доводам разума, согласился на мирные переговоры, Кондо Исами ещё оставался в заключении. Кацура приложил всё своё влияние, чтобы отсрочить вынесение приговора, но об освобождении речи не шло – обвинители продолжали настаивать, что Сакамото Рёму убили Синсэнгуми, и представители Тоса, соратники Рёмы, требовали смертной казни. Чтобы переубедить их, требовались доказательства и время, а времени не было. В тюрьме здоровье Кондо неожиданно пошатнулось – начала воспаляться старая рана от пули в плечо.
Сбиваясь с ног, Кацура всё-таки выхлопотал разрешение о переводе пленного из-за решетки под домашний арест. Несмотря на это, состояние Кондо быстро ухудшалось, и тогда лидер Тёсю решился на отчаянный шаг. Наперекор приказу Сайго, который требовал хранить всё происходящее в тайне от Катамори, Кацура обратился напрямую к князю, рассказал о болезни Кондо и попросил прислать хорошего врача – поскольку врач, приставленный Сайго, был то ли недостаточно умел, то ли недостаточно усерден.
Мацумото-сэнсэй пришел во вражеский лагерь, чтобы лечить своего давнего пациента и друга. Но время было упущено – а может быть, им просто не повезло. Воспаление от разбитой и плохо сросшейся ключицы вылилось в заражение крови – и всего за несколько дней несокрушимый комадир Волков сгорел в лихорадке.
Кэнсину часто приходило на ум, что если бы не эти двое, Кацура и Мацумото, – смерть Кондо положила бы конец мирным переговорам, и в Айдзу снова полилась бы кровь. За командира Синсэнгуми мстили бы до последнего человека, а Катамори слишком высоко ценил Кондо, чтобы смириться с его потерей. Желание Сайго умолчать о состоянии пленника только ухудшило ситуацию: теперь все объяснения касательно болезни и бессилия врачей выглядели попыткой замести следы преступления. И Кацура сам поехал в ставку Катамори, поставив на кон собственную жизнь.
Кэнсин не присутствовал на той встрече – это был единственный раз, когда Кацура, отправлясь на опасное дело, не взял с собой телохранителя. Но потом из чужих рассказов узнал, что Кацура смог убедить Катамори и Хидзикату в том, что в смерти Кондо не было чьего-либо злого умысла. А Мацумото подтвердил его слова – и свидетельство собственного врача стало решающим для князя. Переговоры были доведены до конца, и провинция Айдзу перешла под руку императора без дальнейшего кровопролития.
...В дверь постучал домоправитель. Заулыбавшись при виде ожившего Кэнсина, он поставил у постели столик с ужином и удалился, повинуясь жесту Кацуры.
– Прошу прощения, – Кэнсин первым делом ухватился за чашку с чаем. – Про нападавших что-нибудь известно?
Кацура покачал головой.
– Не больше того, что можно выжать из осмотра трупов. Личных вещей с именами владельцев ни у кого нет, документов – тем более.
– Погодите, – насторожился Кэнсин. – Ведь двое ещё оставались живы! Одного оглушили вы, одного – я...
Кацура покачал головой.
– Они умерли. Днём, в тюремной больнице.
Кэнсин медленно отставил чашку. От горечи свело рот, хотя чай был тут, конечно ни при чём.
Он знал, что и тупым мечом можно убить. И всегда напоминал себе об этом, соразмеряя силу удара. Мог ли он прошлой ночью забыться настолько, чтобы перешагнуть черту между увечьем и убийством?
Мог. Запросто. Когда ясность рассудка теряется, выучка тела берёт верх над разумом. А его тело было обучено убивать, и эту память не вытравить из мышц и связок.
Кацура, хмурясь, вынул чашку из его опущенной руки.
– Прежде чем ты начнёшь грызть себя за все настоящие и мнимые прегрешения, дослушай до конца. В больницу они попали без сознания и умерли через несколько часов, так и не очнувшись. Врач, который пытался привести их в чувство, убеждён, что они были отравлены или опоены. Мацумото-сэнсэй, кстати, отправился к нему на осмотр тел, вместе они должны дать окончательное заключение. А тебе разве не показалось, что злоумышленники вели себя странно?
– Показалось. Они не чувствовали боли. И слишком быстро приходили в себя. Вставали после таких ударов, которые должны были надолго их обездвижить.
– Поэтому я думаю, что врач не ошибся. Не знаю, что за снадобье может одновременно приглушить боль и вызвать такой нечеловеческий прилив сил, с этим пусть Мацумото разбирается. Но знаю одно: сила не берётся из ниоткуда, и её чрезмерный расход не проходит бесследно для тела. Скорее всего, они сами сожгли себя в этом бою. Тот, кто опоил их, послал их на смерть. Не исключено, что это тоже входило в его планы, чтобы не оставлять лишних зацепок для следствия... – Он поднял с подноса чашку с рисом. – Ешь, пока не остыло.
Кэнсин взял палочки, неловко подцепил слипшиеся белые зёрна. Кацура держал чашку на уровне его груди, чтобы ему не приходилось нагибаться к столику, и продолжал:
– Инспектор Найто хотел видеть тебя, как только ты будешь в состоянии с ним побеседовать. Потому что из участников нападения предположительно выжил только мальчик с винтовкой, а ты – единственный, кто видел его и может опознать.
– Его так и не нашли?
– Пропал бесследно. И объявлять в розыск по приметам "мальчик двенадцати лет", сам понимаешь, бесполезно. Поэтому Найто и горит желанием пообщаться с тобой.
– Я готов, – Кэнсин отложил палочки. – Хоть сейчас.
– Уверен? – Кацура внимательно посмотрел на него. – Врач ещё не разрешил тебе вставать.
– Я не смогу доехать до участка, – согласился Кэнсин. – Но вы ведь можете пригласить господина инспектора сюда?
– Разумеется. – Кацура отставил пустую чашку. – А я смотрю, тебе очень хочется, чтобы паренька поскорее нашли. И... похоже, не для того, чтобы спросить с него за своё плечо?
Кэнсин прикусил губу.
– Если те, кто организовал нападение, не хотят оставлять лишних свидетелей, то они могут его убить. Для него самого будет лучше, если его найдёт полиция, а не преступники.
– Понимаю, – Кацура едва заметно улыбнулся. – Я отправлю посыльного в полицейское управление. Инспектор Найто, конечно, занятой человек, но, думаю, выкроит время для визита.
***
– Мацумото-сэнсэй тоже полагает, что нападающие были одурманены. При вскрытии он нашёл какие-то симптомы, указывающие на отравление растительными ядами. Подробностей не спрашивайте, я и сам понял от силы половину того, что он сказал.
Инспектор Найто расхаживал по гостиной, сцепив руки за спиной. Чёрный мундир французского образца смотрелся на нём куда лучше, чем на многих японцах, примеряющих заграничную одежду, – в основном за счёт высокого роста и хорошей осанки. Но вот скрещивать руки на груди, вкладывая кисти рук в рукава, в такой одежде было уже невозможно – и вместе с европейским покроем мало-помалу приживались европейские жесты. Как ни странно, господину инспектору это шло.
Он приехал уже затемно, когда во всём доме зажгли лампы. К тому времени Кэнсин успел не только поужинать, но и одеться, и даже сполз по лестнице на первый этаж, обставленный в модном европейском стиле. Здесь, сидя в глубоком и мягком кресле, с неубранными волосами и в кое-как натянутой на перевязанное плечо юкате, он казался себе удивительно неуместным по сравнению с Кацурой и инспектором, на которых заморская одежда сидела как влитая.
– Мацумото показал нам и вашу пулю, – хмурый взгляд полицейского вскользь прошёлся по Кэнсину и снова обратился к Кацуре. – Судя по калибру – винтовка Спенсера. Облегчённая, для пехоты.
– А таких винтовок после войны осталось предостаточно, – проговорил вполголоса Кацура, выколачивая пепел из трубки. – И с вашей стороны, и с нашей.
Инспектор сдвинул красиво очерченные брови.
– Я рассматриваю все версии, в том числе и месть. Но с нашей стороны, – он выделил эти слова голосом, – многие всё-таки помнят, что вы сделали больше всех для прекращения войны, и если бы и стали охотиться за чьей-то головой, то не за вашей. Да и вербовать детей для ночных убийств никогда не было нашей тактикой.
Непроизнесённые слова "в отличие от вас", казалось, повисли в воздухе между ними, как облачко табачного дыма. Кацура спокойно улыбнулся.
– Вы всё так же прямолинейны, господин Хидзиката. Право, жаль, что вы не попробовали свои силы в политической карьере. Способность называть вещи своими именами – это качество, которого недостаёт многим нашим государственным деятелям.
– В этом случае мне пришлось бы отказаться от меча. И от возможности по временам пускать его в ход. Должны же у человека быть маленькие радости в жизни.
У Кацуры вырвался короткий смешок. Хотя Кэнсину показалось, что инспектор совсем не шутил.
...После капитуляции Айдзу отряд Синсэнгуми распался, и слухи о некогда грозных Волках Мибу затихли окончательно. Зато в свежесформированной токийской полиции зародился отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями, и как-то само собой оказалось, что этот отдел на две трети укомплектован бывшими членами Синсэнгуми. А поскольку ни один начальник из числа сацумских или тёсских чиновников не горел желанием попробовать себя в роли дрессировщика, то никто и не стал возражать, когда руководство отделом взял в свои руки некто Найто Хаято, также известный как Хидзиката Тосидзо.
Его прошлое не было ни для кого тайной, но усилиями Кацуры против Хидзикаты и остальных выживших офицеров Синсэнгуми больше не выдвигали обвинений. Дело об убийстве Сакамото Рёмы закрыли за смертью всех подозреваемых – Харада Саноскэ, которого считали непосредственным исполнителем наряду с Сайто Хадзимэ, сложил голову под Уэно. Сайто же, по официальным данным, погиб в первом и последнем столкновении сил альянса Са-Тё с войсками Айдзу на перевале Бонари.
...А то, что заместитель Хидзикаты, помощник инспектора Фудзита Горо, был до странности похож на покойного Сайто – так это мало ли, кто на кого похож.
– Помимо пули, у нас есть ещё вот это. – Инспектор достал из внутреннего кармана и положил на стол полоску белой ткани, чуть запачканную кровью с одного края.
На белом поле были набиты чёрной краской три иероглифа: "Самбякудзю".
– "Триста зверей"? – удивился Кацура. – Это ещё что?
– У них были нашивки на рукавах, – пояснил Хидзиката. – У всех пятерых. Но никто из наших осведомителей среди якудза не слышал о шайке с таким названием.
– У мальчика тоже была нашивка, – Кэнсин прикрыл глаза, силясь восстановить в памяти увиденное в тот миг, когда они находились лицом к лицу. – Я не обратил внимания сразу, а теперь припоминаю. Чёрная куртка и белая нашивка на рукаве. И... да, ещё повязка на голове. Не знаю, какого цвета.
– Красного, – пробормотал Хидзиката. – На месте засады нашли красную ленту. Но одежду легко сменить.
– Ещё у него должен быть след от удара сакабато, – Кэнсин провёл ребром ладони по груди наискосок. – Длинный узкий синяк, он не скоро сойдёт. По синяку вы его узнаете.
– Ну да, – хмыкнул Хидзиката. – Всего-то хлопот – переловить и раздеть по пояс всех беспризорников в возрасте двенадцати лет. Как нечего делать.
Кэнсин вздохнул. Он очень хотел помочь, но никаких особых примет, вроде родинок и шрамов, сообщить не мог. Лицо юного стрелка он тоже запомнил смутно – и из-за темноты, и из-за потрясения.
Только глаза и врезались в память – большие, тёмные, отчаянные. И совершенно не детский взгляд, в котором даже испуг не перебил ожесточённой решимости.
– Глаза, – сказал вслух Кэнсин.
– Что? – не понял инспектор.
– У него были глаза не как у одурманенного. И он не поднялся после моего удара. А когда поднялся – убежал, а не бросился в драку.
– Если его не опоили, – поймал его мысль Кацура, – значит, он ещё должен быть жив.
– И, значит, хотя бы этой пешкой наш неизвестный игрок дорожит, – кивнул Хидзиката. – Интересно.
Он достал часы, откинул крышку и недовольно покачал головой.
– Ещё один вопрос, господа. Что можете сказать о стиле фехтования ваших противников? Какие-нибудь характерные приёмы? Может быть, знакомая школа?
Кэнсин задумался.
– Ничего знакомого, – неуверенно сказал он. – Да и дрались они не очень хорошо. Сомневаюсь, что хотя бы один из них был на уровне мокуроку. Так... как будто нахватались по верхам из разных стилей.
– Ясно, – разочарованно протянул Хидзиката. Будь хоть один из злоумышленников дипломированным бойцом, его можно было бы вычислить по спискам учеников школы, а самоучкам счёта никто не вёл. – Прошу прощения, но мне пора в управление. Фудзита разбирается там с оружием преступников – может быть, ему удалось что-то выяснить. А вас, господин Кацура, я попрошу всё-таки поразмыслить над списком ваших врагов и подумать, кто из них мог использовать такие средства для вашего устранения.
Он поклонился и направился к дверям.
– Господин инспектор, – окликнул его Кэнсин. – Если этого мальчика арестуют и его вина будет доказана, что его ждёт?
Хидзиката обернулся на пороге гостиной.
– За покушение на жизнь советника? Скорее всего, смертная казнь, если суд не проявит снисхождения к возрасту подсудимого. Всего хорошего, господа. Благодарю за содействие расследованию.
Он вышел стремительно, как можно двигаться только в европейской одежде, в которой ничего не свисает, не путается в ногах и не цепляется за мебель. Порой Кэнсину казалось, что этот человек сменил синее форменное хаори на заморский наряд только ради удобства.
Кацура дотянулся до коробки с табаком и начал набивать трубку заново.
– Ничего не поделаешь, Химура, – ответил он на вопросительный взгляд телохранителя. – Будем ждать новостей.
Глава 3
Новости не заставили себя долго ждать. На рассвете третьего дня после покушения, когда Кэнсин после очередной полубессонной ночи клевал носом над чашкой утреннего риса, Кацура вошёл – точнее, ворвался к нему в комнату.
– Ночью было ещё одно нападение, – отрывисто сообщил он. – Сайго цел, Омура ранен. Из нападавших никого взять живым не удалось.
– Снова "Триста зверей"? – вскинулся Кэнсин. Всю сонливость как рукой сняло.
– Да, с такими же повязками. Это что-то похуже, чем просто банда. – Нервно сжимая кулаки, Кацура прошёлся по комнате к окну и обратно. – Газетчики в восторге, правительство в панике. Я еду в Дадзёкан.
– Господин Кацура! – От возмущения Кэнсин привстал, чуть не опрокинув поднос. – Вам нельзя покидать дом без охраны!
– Успокойся, я с охраной. Инспектор Найто прислал мне Фудзиту и ещё двоих людей. Но его отдела не хватит на охрану всех членов правительства. Зато если он в ближайшее время не представит им голову организатора этих нападений, следующей на очереди будет его голова. Как ни крути, а для инспектора полиции это крупный провал, и по такому случаю ему припомнят всё хорошее, начиная с "Икэда-я"... Ну, всё, я должен идти. Поговорим вечером.
***
Подробности нападения, взбудоражившего столицу, Кэнсин узнал в тот же день от Мацумото-сэнсэя, как обычно пришедшего после обеда сменить повязку. Утро врач провёл в доме Омуры Масудзиро, военного министра, оказывая ему помощь. Состояние Омуры внушало тревогу: глубокая рана в ногу, нанесённая мечом, была сильно загрязнена, и Мацумото опасался воспаления.
Нападение произошло, когда Омура вместе с Сайго Такамори сидели в отдельном кабинете ресторана "Мидзуки" Они уговорились о частной встрече, чтобы обсудить несколько вопросов, в которых они никак не могли достичь согласия на заседаниях правительства. Видимо, Сайго надеялся, что неформальная обстановка сделает уважаемого собеседника более сговорчивым. Но вышло наоборот, и спор за ужином затянулся до глубокой ночи.
Люди с повязками "Самбякудзю" на рукавах ворвались в ресторан, когда все посетители, кроме Сайго и Омуры, уже разошлись. Хозяина и его жену убили сразу, не успевшего сбежать повара – на пороге чёрного хода. И направились в кабинет для высоких гостей.
– Их было восемь человек, – рассказывал Мацумото-сэнсэй, накладывая на рану густую тёмную мазь. – И они как будто заранее знали, куда идти. Двое зашли с веранды, остальные – из общего зала.
– Как же господин Сайго уцелел? – изумился Кэнсин.
В отличие от Кацуры, Сайго Такамори не мог похвастаться высоким мастерством мечника. Имея внушительный рост и сложение борца сумо, он в последнее время сделался неповоротлив – сказывалась сидячая работа. Трудно было представить себе, чтобы он отбился хотя бы от одного убийцы, не говоря уже о восьми.
– А с ним был Накамура, – усмехнулся Мацумото. – Потому-то из напавших никто и не выжил. Даже для полиции работы не осталось.
Кэнсин понимающе кивнул. С Накамурой Хандзиро, тогда носившим имя Кирино Тосиаки, ему довелось один раз встретиться в бою – в приснопамятном сражении у Запретных врат, когда войска Тёсю пытались пробиться во дворец, а самураи Сацумы под командованием Сайго выдавливали их обратно. В тот раз Кэнсин успел обменяться с Кирино несколькими ударами, прежде чем неумолимое течение боя растащило их в разные стороны, – и был весьма впечатлён его мастерством. Но больше помериться силой им не пришлось: в следующий раз они встретились уже союзниками.
Если этот человек охранял Сайго Такамори, то не приходилось гадать, почему нападение провалилось. Скорее следовало удивляться тому, что убийцы смогли дотянуться хотя бы до одной из намеченных целей.
– А как же господин Омура?
Мацумото помрачнел.
– А он попытался сбежать через сад, не зная, что на веранде ждут ещё двое. Отбиться не смог, получил мечом по ноге и упал с веранды в пруд. Злоумышленники его не достали, но он потерял много крови, пока подоспела помощь, и в рану попала грязная вода. – Мацумото завязал концы бинта на спине у Кэнсина. – А я-то надеялся, что после окончания войны у меня поубавится работы такого рода.
– А что... инспектор Найто? – осторожно спросил Кэнсин.
Мацумото вздохнул.
– Рвёт и мечет, само собой. В городе бесчинствует банда, нападающая на членов правительства, а у него за три дня – ни одной новой зацепки. По-моему, он готов сам убить Накамуру за то, что тот не оставил ни одного бандита для допроса.
– Если они приняли то же снадобье, – напомнил Кэнсин, – то их в любом случае не удалось бы допросить. Ведь так?
– Да, вы правы. Кстати, – Мацумото принялся складывать на поднос обрезки бинтов и корпию, – я попытался разобраться с составом этого снадобья, исходя из тех следов, что обнаружились при вскрытии. Может быть, зная, из чего оно было приготовлено, мы найдём аптекаря, который его продал. Но пока надежды на это мало... Ну, вот и всё. Отдыхайте, господин Химура.
– Спасибо вам за заботу, Мацумото-сэнсэй.
Врач скупо улыбнулся и вышел.
***
Кацура вернулся поздно вечером. Устало сообщил, что Сайго всё-таки прибыл на заседание правительства и в самых нелестных выражениях пристыдил тех отсутствующих, кто из страха перед новыми нападениями предпочёл остаться дома. Пример Сайго оказался благотворен, и к концу дня панические настроения сошли на нет. О состоянии здоровья Омуры справлялся сам государь... да, ему доложили о происшествии, и он изволил выразить беспокойство в связи с этим разбоем, равного которому не было со времён Реставрации.
– Господин Кацура, – настойчиво сказал Кэнсин, – вам нужна постоянная охрана.
– Фудзита будет сопровождать меня в поездках, – отмахнулся Кацура. – А от пеших прогулок я воздержусь, по крайней мере, до твоего выздоровления.
– Я не об этом. Вам нужна охрана и в доме тоже.
– Вот как? – Кацура поставил трость в угол и обернулся. – Ты считаешь, что в доме мне может грозить опасность? От кого?
– Кто-то выдал "Самбякудзю" ваш маршрут до дома. И кто-то сообщил им место и время встречи Сайго и Омуры. Это означает, что у них есть осведомители в окружении жертв. Они потеряли пятерых – и почти сразу посылают восьмерых на такое же безнадежное дело. Похоже, они вовсе не считают потери, а значит, у них нет недостатка в исполнителях. Возможно, их действительно триста человек. – Кэнсин начал отгибать пальцы на здоровой руке. – Численность, вооружение, осведомители в высших кругах правительства, и, вероятно, агенты внешнего наблюдения. Я думаю, вы были правы – это не просто банда. Это организация уровня Синсэнгуми. И кто-то из ваших слуг или помощников работает на них.
По мере того, как он говорил, лицо Кацуры приобретало всё более задумчивое выражение.
– Неплохо, – проговорил он, когда Кэнсин умолк. – Сам додумался?
– У меня было много времени на размышления. Думаю, Хидзиката пришёл к тем же выводам. Нападения слишком хорошо спланированы...
– И при этом бездарно провалены, – возразил Кацура. – В твоих рассуждениях есть один изъян. Если "Триста зверей" были так хорошо осведомлены о наших перемещениях, они должны были знать и о том, что меня сопровождаешь ты, а Сайго – Накамура. Допустим, при нападении на нас они недооценили тебя и слишком понадеялись на своего стрелка. Но вчера-то они должны были учесть сделанные до этого ошибки. А они даже огнестрельным оружием не воспользовались, просто выставили тех восьмерых на убой. Если они знали, что Сайго будет под охраной, почему не послали больше людей? А если не знали – то что же за осведомитель у них такой?
Кэнсин покачал головой. Он тоже этого не понимал.
– Ладно, – Кацура подошёл к окну, несколько секунд смотрел в темноту, а потом рвыком задёрнул занавески. – Считай, что ты меня убедил. Я что-нибудь придумаю насчёт охраны. В конце концов, даже если в доме нет их сообщника, с этих безумцев станется напасть и без подготовки... Ох, Химура-кун, нет ничего хуже, чем воевать с дураками.
Он невесело улыбнулся Кэнсину.
– Отдыхай, пожалуйста. Ты нужен мне здоровым – и как можно скорее.
@темы: Меч и сердце, Глициния - цветок живучий, Записки на бумажном журавлике, Синсэн и около
Размер: миди
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Сагара Саноскэ, Сайто Хадзимэ, Такани Мэгуми, Камия Каору, Сагара Содзо (за кадром)
Категория: джен
Жанр: hurt/comfort, драма
Рейтинг: PG-13
От автора: В первый раз накатала текст по полнометражке, а не по аниманге. Народ читал, даже хвалил. Но вот какая закавыка: в диалоге Сано и Сайто есть одна реплика, ради которой, можно сказать, писался весь текст. Я её особо не выпячивала, решив, что те, кто знает биографию Сайто, и так обратят внимание. Но никто из прочитавших об этом моменте не упомянул. Теперь думаю - а оно вообще считывается, или надо было всё-таки подсветить?

А Кэнсин, оболтус такой, не потрудился растолковать дорогу. Только зубами скрипнул и выскочил за порог. Пока Саноскэ успокаивал Мэгуми, пока выводил её из разгромленного особняка, подальше от глаз набежавшей полиции и зевак, – рыжего мечника и след простыл. И как прикажете искать его в лесу среди ночи?
Небо уже побелело над верхушками деревьев, когда сырой воздух пронзила трель полицейского свистка. Саноскэ проклял свою медлительность и ломанулся на звук – вверх по откосу, напрямик через заросли. И очень скоро увидел сквозь редколесье серые ступени храмовой лестницы и чёрные мундиры сбегающих по ней легавых.
Кэнсина он разглядел минутой позже – тот шёл по ступеням вверх, медленно и осторожно, словно воду боялся расплескать. У Саноскэ всё заныло внутри от тяжёлого предчувствия: на руках мечник нёс Каору, и отсюда не разглядеть было, дышит она или... Если Кэнсин сам не прикончил этого урода, – мелькнуло в голове, – найду и шею сверну.
Последние шаги до лестницы Саноскэ преодолел бегом.
– Ну, как? – выдохнул он, взлетая на ступени. – Живая?
Кэнсин остановился, прижимая девушку к себе. Кивнул с опозданием, как будто не сразу расслышал оклик. Его чуть заметно пошатывало, и взгляд уплывал куда-то мимо товарища, в пустоту за его плечом.
– Э, да ты совсем вымотался, – Саноскэ покачал головой и подставил руки. – Давай-ка лучше я.
Кэнсин так же молча кивнул. Но руки разжал не сразу.
Каору была без сознания, но дышала вроде ровно. Ресницы у неё слиплись от слёз, на щеке темнела ссадина, на руках – синяки от верёвок. И снова спёрло дыхание от ненависти – ведь носила же земля такого мерзавца. А может, и до сих пор носит, если Кэнсин опять побрезговал пачкать руки.
– Ты ведь прибил этого сукина сына? – с надеждой спросил он. – А, Кэнсин?
Но рыжий не ответил. Стоял, глядя перед собой дурными глазами, дышал, как загнанная лошадь...
А потом вдруг сник и хлопнулся наземь.
– Эй! – Саноскэ дёрнулся его поддержать, но с Каору на руках смог только подставить плечо, чтобы смягчить падение. Кэнсин тряпочкой сложился ему под ноги, будто из него все кости вынули. Растерявшись, Саноскэ опустился на колено, поддерживая девушку одной рукой, и похлопал приятеля по щеке. – Эй, ты чего?
– Посторонись.
От неожиданности Саноскэ чуть не кувыркнулся задом со ступеней. В неверном утреннем свете долговязая фигура в чёрном мундире воздвиглась над ними, как пагода при храме Сэнсодзи. Оставалось только изумляться, как легавый смог приблизиться так быстро и тихо – минуту назад лестница была пуста до самых ворот.
– Я сказал, посторонись, – недовольно повторил он, щелчком отбрасывая недокуренную папироску. Теперь Саноскэ узнал в нём человека, с которым они недавно расстались в особняке Канрю, и удивляться перестал. Легавый присел на корточки рядом с Кэнсином и без труда перекатил его на спину. Быстро провёл ладонью по измятому красному косодэ, недовольно хмыкнул.
– Что с ним? – не выдержал Саноскэ.
– Ранен. – Полицейский раздвинул одежду на груди Химуры. – Упёртый идиот...
Красная ткань обманула – кровь на ней была почти незаметна, а вот под одеждой всё оказалось намного хуже. Две раны под левой ключицей были небольшими, но кровоточили сильно. Саноскэ выругался шёпотом. После тех чудес, которые Кэнсин вытворял в доме Канрю, просто в голове не умещалось, что нашёлся кто-то, способный пырнуть его аж два раза.
Полицейский вытащил из-за обшлага платок, располовинил одним рывком и заткнул обе раны клочками ткани. Потом так же, руками, отодрал от пропитанного кровью дзюбана воротник и крест-накрест перетянул плечо Кэнсина этой полосой.
– В вашем додзё есть приличный врач? – деловито спросил он, затягивая узел. – Если нет, то я забираю его в больницу.
– Есть, – торопливо сказал Саноскэ. Он вспомнил, как Мэгуми хлопотала над отравленными – нежные брови нахмурены, рукава подвязаны, а ручки белые-белые! – и что-то тепло защипало в сердце. – Есть врач. Хороший врач.
– Тогда идём. – Легавый как ни в чём не бывало поднял Кэнсина, взвалил его на плечо и зашагал прямо в лес.
Саноскэ остолбенело смотрел ему в спину. Потом ругнулся вполголоса, поудобнее пристроил голову Каору у себя на плече и рысью почесал следом.
***
Яхико встретил их ещё за воротами. Ойкнул, увидев Каору и Кэнсина, распахнул ворота настежь и опрометью метнулся в дом. Когда Саноскэ добрёл до крыльца и поднялся в переднюю комнату, пацан уже успел расстелить два футона. Легавый сгрузил Кэнсина на ближайшую постель, так что оставалось только уложить Каору рядом и слинять куда-нибудь, чтобы не мешать подоспевшей Мэгуми осматривать обоих.
Не тут-то было. Оказалось, что надо быстро, вот прямо сейчас, наколоть дров, потому что огонь в очаге вот-вот погаснет, а горячей воды нужно много. И, кстати, сходить за водой, а то она скоро закончится. И – это уже Яхико – сбегать ещё раз к аптекарю вот за такими лекарствами. И потом ещё в лавку за бутылкой самого крепкого сётю... нет, дурак, это не для питья, это для обработки ран! И даже не проси, ни глоточка не дам!
От последнего заявления Саноскэ вконец расстроился и пошёл колоть дрова. И носить воду. И это было даже неплохо, потому что лучше уж работать, чем сидеть и грызть ногти от беспокойства за тех двоих.
Среди этой суеты легавый куда-то исчез – все уже решили, что смылся к себе в участок. А потом вдруг обнаружился там, где его никак не ожидали найти: на кухне. Саноскэ, который всего-то зашёл попить водички, чуть не уронил челюсть, увидев его возле растопленного очага с чайником в руках – будто у себя дома.
Полицейский, не замечая его ошеломления, преспокойно наполнил чайник кипятком, поставил на столик вместе с чашками и отнёс на настил. Сам он на чистую половину не поднимался – ну да, ему с этими форменными сапогами, наверное, сущая морока разуваться и обуваться. Проще уж с краешку примоститься.
Как же его звать-то, озадачился Саноскэ. А ведь в тюряге он слышал пару раз, как надзиратель здоровался с этим типом. Один раз, когда тот пришёл забрать Кэнсина, и потом ещё раз, когда самого Саноскэ отпускали с вещичками... Что-то там про глицинию... Фудзибана, что ли?
Нет, вроде бы не Фудзибана, а Фудзита. Офицер Фудзита, точно.
Саноскэ взял два соломенных дзабутона, бросил по обе стороны столика – один на край настила, чтобы гость мог сесть, не поднимаясь наверх в сапогах, другой напротив. Фудзита небрежно кивнул, уселся и взял чашку. Саноскэ плюхнулся с другой стороны, потянулся с наслаждением, до хруста в связках. Чёртов монах дрался неплохо: скула до сих пор ныла, а до мышц живота не хотелось дотрагиваться – словно лошадь лягнула под вздох. Но даже боль не могла омрачить воспоминаний о том, как весело было проламывать монахом стенку. И как трясся очкастый червяк Канрю, когда понял, что остался один против трёх очень недовольных парней...
– Это... – спохватился он, поворачиваясь к Фудзите. – Спасибо тебе. С пулемётом – это ты здорово придумал, молоток.
Тот безразлично пожал плечами, наливая себе чай.
– Старый трюк. Его изобрели ещё раньше, чем пулемёт.
Саноскэ откашлялся и в свой черёд протянул руку за чайником.
– И насчёт Кэнсина. Тоже спасибо, значит... Я бы его и так дотащил, – поспешно уточнил он, наполняя чашку, – но ты очень помог.
На этот раз Фудзита вообще ничего не сказал. Только хмыкнул.
Саноскэ хлебнул чаю. После такой славной драки лучше было бы выпить чего покрепче, но... эх, милашка Мэгуми, нельзя же так обламывать людей!
Стоило подумать о ней – и тотчас из дальней комнаты зашелестели, приближаясь, шаги. Легка на помине, Мэгуми вышла в кухню с подносом в руках.
– Что? – не удержался Сано. – Как он, оклемается? А малышка?
– Всё будет хорошо, – Мэгуми улыбнулась слабой, вымученной улыбкой. С подобранными наспех волосами, с усталыми тенями на бледном лице, она всё равно была красива – не так, как разнаряженные богатые бездельницы, а так, как красивы матери, не смыкающие глаз над детской колыбелью. – У Каору просто обморок, ей только отдохнуть надо и выспаться. Кэн-сан... там всё хуже, конечно. Но ему повезло – лёгкое не задето, и раны чистые. И, главное, вовремя остановили кровотечение. Он скоро придёт в себя.
– Действительно, хороший врач, – негромко сказал Фудзита из своего угла. Мэгуми бросила на него испуганный взгляд – и попятилась, разглядев полицейскую форму. – Имя?
– Такани... – Она побелела на глазах, словно из неё всю кровь выпустили. – Такани Мэгуми...
Саноскэ не на шутку встревожился. Похоже, у неё были причины бояться полиции – и причины посерьёзнее, чем простое знакомство с Канрю и его шайкой. А если так... то как бы не вышло, что он подложил Мэгуми большую свинью, притащив легавого прямо в дом.
И вот что теперь делать с таким неудобным гостем? Огреть его по башке и сплавить под мост? Как-то нехорошо оно выйдет. Фудзита им здорово помог – и сейчас, и тогда, в доме Канрю. Да и с Кэнсином они, по всему видать, старые приятели, недаром же Фудзита его из каталажки вытащил.
А с другой стороны, если эта полицейская морда попытается упрятать в каталажку Мэгуми – то придётся таки огреть и сплавить. Потому что дружба дружбой, а таких славных девушек Сагара Саноскэ никому не позволял обижать.
– Из Айдзу? – спросил Фудзита, вытаскивая портсигар.
– Д-да, – девушка сглотнула и как-то судорожно выпрямилась. – Как вы... догадались?
– Акцент, – коротко пояснил полицейский. – Из семьи кто-нибудь остался?
– Нет... Никого...
– Завтра, – Фудзита скосил глаза на полоску света, пробивающуюся из-за двери, – то есть, уже сегодня к тебе придёт человек с запиской от меня. Расскажешь ему всё, что ты знаешь о Канрю и тех, с кем он вёл дела. Без вранья и увёрток. Взамен могу обещать, что твоё имя не появится в протоколах. Ты меня поняла?
– Да, – выдохнула Мэгуми. – Да, господин инспектор.
– Помощник инспектора, – поправил её Фудзита. – Ну, ступай.
Мэгуми молча кивнула и выскользнула из кухни тише мышки – только тень метнулась по дальней стене. Саноскэ перевёл дух и не удержался от восхищённого присвиста.
– Ну ты и жук, – покачал он головой. – Из неё, значит, показания вытрясешь, от нас с Кэнсином всю банду на блюдечке получил – а награда, небось, тебе одному достанется? Это ты ловко!
– Идиот.
– Кто? – Саноскэ не поверил своим ушам.
– Не я, – коротко отрезал полицейский, зажимая в зубах папиросу.
– Значит, я, что ли?
– До двух считать умеешь, уже хорошо. – Фудзита присел у очага, выловил щипцами уголёк и прикурил.
Саноскэ уставился взглядом в обтянутую чёрным мундиром спину и медленно поднялся на ноги.
– Слышь, господин помощник инспектора, – проговорил он с расстановкой, сжимая кулаки. – Ты, по-моему, ищешь себе неприятностей.
– Я? – удивился Фудзита. – Я, в отличие от некоторых, не ношу одежду с глупыми надписями, не мозолю никому глаза красной повязкой и не похваляюсь фамилией Сагара. Так что из нас двоих неприятностей ищешь именно ты. Особенно в свете того, что приговор бывшим членам Сэктхотай до сих пор не отменён. – Он выпрямился; в тёмных глазах на мгновение метнулся жёлтый отблеск огня. – Тебе что, жить надоело?
Саноскэ сглотнул – горло словно пылью забило. Не от страха, какое там – от сухой, скрипящей на зубах ярости. Боялся он сейчас только одного: что не совладает с собой и размозжит голову наглеца прямо здесь, об этот же очаг.
– Ты...
Он слышал, что не говорит – хрипит, как пёс с передавленной ошейником глоткой. Он не мог, не должен был убивать Фудзиту; он не мог даже избить его сейчас – после всего, что легавый сделал для них, для Кэнсина, после того, как обещал – неважно, почему – отмазать Мэгуми от неприятностей...
Он не мог причинить вреда этому человеку, и сам себя держал, как ошейником-удавкой; но ярость рвалась изнутри – и душила.
– Ты, сволочь... если ты ещё раз попрекнёшь меня этой фамилией... если хоть пальцем тронешь имя Сэкихотай... я тебя не убью. Я тебе рожу набок сверну и обратно выправлять не стану. И мне плевать, засадят меня после этого в тюрьму или казнят. Ну, давай, иди, расскажи начальству, что нашёл беглого сэкихотайца. Только не обессудь, если за меня заплатят меньше, чем за Канрю. Я-то детишек не травил и людей на опиум не подсаживал.
Фудзита, как ни странно, не перебивал его. Слушал молча, даже затягиваться перестал.
– Это всё? – спросил он, когда Саноскэ умолк, захлебнувшись словами и бешенством. – Ты всё сказал или хочешь что-то добавить?
– Всё! – выплюнул Саноскэ.
– Идиот, – повторил Фудзита. – Ты, видимо, забыл, что неделю назад сидел у меня в обезьяннике? Если бы я собирался предъявить тебе обвинение в связях с Сэкихотай – мне даже не пришлось бы тебя арестовывать, дубина.
Саноскэ набрал воздуха – и выдохнул впустую, не найдя слов.
И правда ведь. Если по закону – так бывшему члену Сэкихотай из-за решётки был только один выход: на соломенную циновку перед ямой для слива крови. А он отсидел свои пять суток за драку и вышел живой-здоровый, только оголодавший с тюремных харчей. И этот самый Фудзита, помнится, проходил возле его камеры. Поглядывал искоса, папироской этак небрежно пыхал – и мимо.
И молчал ведь, сволочь. Знал, а молчал.
Ярость куда-то вытекла, будто перебродившее сакэ из треснувшей бочки. Осталось всего – осадок на донышке, горькая злая муть.
– Тогда какого хрена ты ко мне цепляешься? Какое тебе дело до моей одежды и фамилии? Или хочешь, чтобы я тебе кланялся за твою милость? В ноги падал за то, что ты меня начальству не сдал? А не шёл бы ты... лесом, господин помощник инспектора?
Каменная морда Фудзиты чуть дрогнула. Неужели и его можно пронять?
– Ты хоть слушал, что я тебе говорю? Лично мне нет дела до твоей одежды, равно как и до твоей фамилии. Но неужели ты думаешь, что я единственный полицейский в городе, у которого есть глаза и мозги? Спрашиваю ещё раз: тебе жить надоело? Если да, то лучше утопись в реке и избавь правительство от расходов на суд и следствие.
Саноскэ не поверил своим глазам: этот тип, кажется, начинал злиться. Вот тебе и раз – он, оказывается, и злиться умеет?
– Я не понял, – фыркнул Саноскэ, – это ты, типа, обо мне заботишься? Беспокоишься, что меня за фамилию заметут и башку оттяпают? Вот уж не ожидал.
Фудзита скривил губы.
– Не беспокоюсь. Просто не люблю дураков, которые по-глупому разбрасываются жизнью. – И таким же ровным тоном добавил – как поддых саданул с размаху: – Сколько лет тебе было, когда Сэкихотай уничтожили? Девять? Вряд ли больше десяти.
– Восемь... – просипел Саноскэ. Воздух не шёл в грудь, застревал где-то внутри. – Восемь мне было.
...На вид ему никто не дал бы восемь. Он был высокий для своего роста, крепкий, что жеребёнок – и когда врал, что ему одиннадцать, все верили. Главное было не краснеть и не отводить глаз.
Капитан Сагара не поверил. Но позорить при всех, уличая во лжи, не стал. Просто вечером отвёл в сторону и спросил: ну что, Сано, сколько тебе на самом-то деле стукнуло?
Соврать, глядя капитану в глаза, было невозможно. Ни тогда, ни потом. Услышав его ответ, Сагара помрачнел. Знаешь, Сано, это ведь не шутки – настоящая война. Не для детей эта работа. Не потому, что ты слабый или трусливый, вовсе нет. Я вижу, что ты крепкий парень. Верю, что ты храбрый. Но, понимаешь, сражаться надо только за то дело, за которое ты готов отдать жизнь. Иначе это будет ложь – и соратникам, и самому себе, а жить с ложью и умереть во лжи – это самая паскудная смерть. А чтобы знать, за что ты готов отдать жизнь, надо знать и саму жизнь. Понимать, чем ты жертвуешь ради общего дела, – и приносить эту жертву искренне, с полной решимостью. Вот что значит быть одним из Сэкихотай. А ты ещё не видел жизни, Сано. Тебе ещё рано сражаться так, как это делаем мы.
Саноскэ не заплакал лишь потому, что капитан смотрел на него. Проявить слабость перед лицом капитана было невозможно. Ни тогда, ни потом. И... совсем потом, когда капитана уже не было, а лицо ещё было, изменившееся в смерти, но ещё узнаваемое, – даже тогда он не плакал, глядя на него из-за ограды лобного места. Каменел молча, впечатываясь лбом в бамбуковую решётку, – но не плакал, потому что капитан всё ещё смотрел на него.
А в тот, первый их разговор Саноскэ нечего было ответить. И он начал говорить о том, как ушёл из дома, а потом слова как-то нашлись и потянулись сами, как по ниточке. Война не для детей, а работа в поле – для детей? Ружья носить – не для детей, а в плуг вместо вола впрягаться – для детей? Когда от войны гибнут посевы – будто кто спрашивает детей, готовы ли они отдавать жизнь за это дело? Нет, с голоду они пухнут без всякой решимости или там жертвенности. И мрут не за дело, а за просто так, за чих собачий. Вот это, как оно есть – неправильно, и он, Саноскэ не подписывался так жить, и против этого он готов воевать. А с жизнью-то расстаться можно и здесь, и у мамки за пазухой. По нынешним временам – очень даже запросто...
И капитан слушал. Взрослый мужчина, опытный солдат, командир целого отряда – сидел и слушал восьмилетнего сопляка. Долго слушал. Полчаса кряду, наверное. А потом сказал: ладно, Сано, ты меня убедил. Беру тебя в отряд. Только – ввиду малолетства – с одним уговором. Рисковать жизнью без моего разрешения тебе запрещено. В бой ли, в разведку ли – только по приказу, и никак иначе. Прикажу сидеть в лагере – будешь сидеть. Прикажу отступить – отступишь. Прикажу бежать – побежишь. Ты не за славой сюда пришёл, а делу помогать. Значит, делай что сказано и не геройствуй. Обещаешь?
И счастливый Саноскэ, конечно, пообещал...
– ...Восемь, – повторил Фудзита. – Значит, ты очень везучий, раз смог выжить. Или, если отбросить в сторону везение, удачу и прочие чудеса... думаю, старшие тебя оберегали. Так ведь?
Саноскэ кивнул. Горло сжало так, что пришлось представить себе лицо капитана. Таким, каким он был при жизни – короткие тёмные волосы, схваченные красной повязкой на загорелом лбу; весёлые лучистые глаза под строгими бровями; твёрдо сжатые губы. Лицом он улыбался нечасто, но глаза – глаза смеялись почти всегда...
...до того последнего день, когда они узнали, что Сэкихотай предали и объявили вне закона. Когда люди императора, за которого они вместе сражались, начали стрелять им в спины.
– Так вот и получается, – Фудзита говорил – как жилы тянул, с расстановкой опытного палача, – Я не собираюсь спорить с тобой, были ли вы правы, когда делали то, что делали. Но члены Сэкихотай сражались до конца, что всё-таки заслуживает уважения. И при этом твои соратники хотели, чтобы ты выжил. Прилагали усилия, чтобы ты уцелел в бойне. А ты этой жизнью, которую они помогли сохранить, разбрасываешься – вот так. – Фудзита в последний раз затянулся и щелчком послал горящий окурок прямо в очаг. И вытащил следующую папиросу.
– Не твоё дело, легавый.
Саноскэ ещё говорил сдавленно, но его отпускало понемногу. Вслед за яростью перегорела и злость, только на губах ещё горчило – то ли от золы, то ли от табачного дыма. Скорее от дыма, потому что полицейский опять прикуривал.
– Чего моя жизнь стоит и как я ей разбрасываюсь... не твоё это дело. Я ношу эту повязку и эту фамилию, потому что я не смог сделать ничего большего для тех, кто был мне как семья. И если я перестану чтить память убитых из страха перед убийцами, то я буду дерьмо, а не человек. Ты так запросто рассуждаешь о моей жизни – а тебя когда-нибудь предавали те, за кого ты готов был отдать жизнь? Ты когда-нибудь дрался насмерть, зная, что тебя все уже списали со счетов и что тебе остаётся только сдохнуть в болоте, как затравленному зверю? Ты когда-нибудь убегал, спасая свою жизнь, потому что тебе приказали бежать? Приказали тебе, именно тебе быть трусом сегодня – потому что если все будут героями, то не останется никого, кто бы выжил... и помнил. Ты когда-нибудь смотрел, как голову человека, которого ты любил и почитал, как отца, выставляют на всеобщее обозрение – и люди, которые предали его на смерть, насмехаются над ним? – Саноскэ проглотил горькую слюну. – Ты ни хрена не знаешь обо мне, легавый. Ни хрена не понимаешь, хоть ты и старше.
Фудзита как-то странно двинул уголком рта, словно хотел усмехнуться, да передумал. Крепко затянулся папиросой, медленно выдохнул дым.
– Действительно, – спокойно сказал он. – Где уж мне понять.
– Да ты...
– Сано.
Кэнсин – и как он умудрился подойти так тихо? – стоял в дверях, придерживаясь за отодвинутую створку сёдзи. Волосы растрёпаны, лицо белое, как соевый творог, – ни дать ни взять, привидение, только босые ноги торчат из-под подола юкаты.
– Ты зря это сказал, Сано. Извинись, пожалуйста.
– С какой радости? – буркнул Саноскэ, уже сбавляя тон. – Он первый начал, между прочим.
– Прошу тебя.
Саноскэ покосился на легавого. Тот мусолил папиросу с таким видом, будто этот разговор не имел к нему никакого отношения. Кэнсин молча ждал, и было видно, что лишь упрямство заставляет его держаться на ногах, когда любой другой на его месте лежал бы пластом. И куда только Мэгуми смотрит?
– Ладно, – процедил Сагара, отвернувшись. Проклятье, если бы не Кэнсин – хрена с два этот хлыщ в мундире дождался бы извинений. – Я был неправ. Доволен? Тогда садись, не торчи у входа, а то мне отсюда видно, как тебя шатает. Чаю хочешь?
Кэнсин послушно отлепился от дверей, добрёл до циновки и сел. Сано налил третью чашку, придвинул ему. Кэнсин выцедил чай за два глотка, словно помирал от жажды.
– Спасибо, – пробормотал он. – Госпожа Каору... в порядке?
Саноскэ фыркнул, снова наполняя его чашку.
– А ты как думаешь – стал бы я тут чаи гонять, если бы с ней что-то стряслось? В порядке она. Мэгуми сказала – отоспится и будет здорова.
– Вот и хорошо, – Кэнсин вздохнул с явным облегчением. – Это ты меня принёс?
– Он помог, – неохотно объяснил Саноскэ, бросив на Фудзиту хмурый взгляд.
Повисло короткое молчание. Потом Кэнсин поклонился полицейскому – не очень глубоко, но заметно.
– Весьма признателен, – отрывисто проговорил он.
– Не стоит. Ты сделал мою работу, так что с меня причиталось. – Фудзита опять присел на край настила, вполоборота к Саноскэ и Кэнсину. – Удо Дзинъэ полагалось быть в могиле ещё тринадцать лет назад, и то, что он попал туда только сегодня – мой недосмотр в том числе.
Кэнсин вскинул голову.
– Вот как? Значит, этот человек...
– Да. Он был из наших. Боец отменный, плохого слова не скажешь. А что нелюдимый и себе на уме – мало ли у нас было таких? Перед законом чист, в связях с мятежниками не замечен, а на остальное мы не смотрели... поначалу.
Кэнсин искоса глянул на него, но ничего не сказал, только чаю отхлебнул. Саноскэ вертел головой, стараясь не упустить ни слова. Он мало что понимал, но было интересно.
– Он неплохо маскировался. Мы только с третьего убитого заподозрили, что это работал не Окада. Почерк похожий, да не совсем. На четвёртом трупе он наследил по-крупному – тут мы и поняли, что гоняемся не за хитокири, а... за собственным хвостом. Трое моих попытались его остановить, – Фудзита немного помолчал. – Когда их нашли, я пошёл сам. Но у Дзинъэ было хорошее чутьё на опасность, и тогда он ещё не ставил жизнь на кон ради острых ощущений. Он не принял вызова, просто исчез. Лёг на дно и носу не показывал, пока не заполыхало всерьёз.
– Тоба-Фусими? – тихо спросил Кэнсин.
Фудзита кивнул.
– Тогда он был уже в кангуне. Вроде бы к Сацума прибился. Там я упустил его во второй раз – на тебя отвлёкся. А где он болтался после войны – не знаю. Впрочем, хорошие убийцы всегда в цене. Без обид, Баттосай.
– Без обид, – блекло улыбнулся Кэнсин. – А спрос на убийц действительно высок. Ваш покорный слуга старался... не выставлять напоказ старые навыки. Тем не менее, за эти годы его несколько раз пытались нанять именно для таких поручений.
Фудзита весело хмыкнул.
– Можешь не продолжать. Если уж ты отшил Ямагату, то представляю, что ты ответил этим людям.
– Притом, что никто из них не заслуживал такого уважения, какое ваш покорный слуга питает к господину Ямагате.
– Кстати о нём. На твоём месте я бы поговорил с Ямагатой, пока он в хорошем настроении после раскрытия опиумного дела. И попросил бы его о небольшой ответной услуге, – Фудзита беззастенчиво ткнул пальцем в сторону Саноскэ. – У этого молодчика смертный приговор висит, заочный. Неудобно как-то.
– Эй! – возмутился Саноскэ. – Я что, просил за меня заступаться?
– Ямагата тебе, конечно, попеняет ещё разок на несговорчивость. – Зараза-полицейский словно не услышал, по-прежнему обращаясь к Кэнсину. – Но в счёт прошлых и нынешних заслуг, думаю, согласится.
– Благодарю за совет, – Кэнсин вежливо наклонил голову. – Ваш покорный слуга так и поступит.
– Да вы что, сговорились? – завопил Саноскэ. – Хорош без меня решать, что со моим приговором делать!
– Желторотым слова не давали, – отрезал Фудзита.
– Сано, успокойся! – Кэнсин вовремя вцепился в локоть приятеля. Не удержал бы, конечно, но Саноскэ побоялся его стряхивать – ну как упадёт неудачно, плечо растревожит?
А пока он старался отцепить Кэнсина полегче да поаккуратнее, Фудзита встал, отряхнул брюки, взял свою катану и преспокойно двинул на выход. Уже у двери остановился и бросил через плечо:
– Два-три дня посидите дома. И за девушками присмотрите. Кое-кто из людей Канрю может ещё шататься по округе, и они знают вас в лицо. За три дня мы закончим уборку, а пока не мелькайте на улице, ясно?
И смылся, гад. Вот так просто взял и свалил, пока Кэнсин висел у Саноскэ на руке и уговаривал его не горячиться.
– Всё, всё, уже сижу. – Сано плюхнулся на место, кипя от злости, но не решаясь огреть рыжего по башке, чтобы отстал. – Сам уймись, прилипала! Ещё раз помешаешь мне драться – тебе первому врежу, так и знай!
Кэнсин примирительно поднял руки.
– Прости, Сано. Этот человек... офицер Фудзита, конечно, грубиян, но он всё правильно сказал. Господин Ямагата – пожалуй, единственный человек, который может решить твою проблему. И твой покорный слуга очень просит тебя не отказываться сгоряча. Обдумай всё хорошенько, ладно?
– Лады, – проворчал Саноскэ. И, не сдержавшись, стукнул кулаком по ладони. – Нет, но каков мошенник этот Фудзита! Мы тут с ног сбились, пока до Канрю добирались, Мэгуми страху натерпелась, вы с малышкой чуть живые вернулись – а этому всё как с гуся вода. Ещё и медаль отхватит, как пить дать. Целую опиумную банду накрыл и того головореза в придачу. Тьфу... – Он попытался налить себе ещё чаю, но и чайник оказался пуст, в довершение всех расстройств.
– Сано, – Кэнсин мягко улыбнулся. – Если в протоколах этого дела будет упомянуто о нашем участии, нам всем несдобровать. И в первую очередь госпоже Мэгуми. Обвинение в распространении опиума – это смертная казнь.
Саноскэ прикусил язык.
– Тебе тоже лучше не светиться, – продолжал Кэнсин. – Всегда может найтись внимательный следователь, который захочет покопаться в твоём прошлом. А что касается твоего покорного слуги, – он невесело усмехнулся, – то приговор ему, правда, не был вынесен. Но если станет известно, что в школе Камия живёт не фальшивый, а самый настоящий хитокири Баттосай, то найдётся немало желающих скрестить с ним мечи ради мести или ради славы. Это была бы плохая услуга госпоже Каору, вот что я скажу. И... офицер Фудзита это понимает.
– Всё-то ты его защищаешь, этого легавого, – буркнул Саноскэ. – А кто он вообще такой? Друг твой, что ли? Приятель?
– Да не то чтобы друг, – Кэнсин пожал плечами. – Скорее даже наоборот.
– Враг? – опешил Саноскэ. И тут же сам рассмеялся – до того нелепо это прозвучало. – Да ну тебя с твоими шуточками. Какой же он, к лешему, враг? Он тебя, между прочим, всю дорогу из леса до дома тащил, ни разу отдохнуть не присел. Я аж удивился – такой тощий, а двужильный...
Кэнсин опять разулыбался невесть с чего. И прямо по глазам было видно, что ему до смерти хочется что-то сказать...
Но он промолчал.
Зараза.
@темы: Меч и сердце, Глициния - цветок живучий, Записки на бумажном журавлике, Синсэн и около
Размер: миди
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, доктор Эльстен, исторические личности
Категория: джен
Жанр: hurt/comfort, драма
Рейтинг: PG-13
От автора: В филлерной арке аниме про восстание в Симабара был такой персонаж - Эльстен, врач и голландский консул в Нагасаки. Старый знакомый Кэнсина, тогда ещё Баттосая, спасённый им во время погромов в Тёсю. Но одного спасения для сюжета показалось маловато, и тут на ум пришёл ещё один доктор из бакумачных времён - неизвестный потомкам "знаток голландской медицины", который лечил Рёму после нападения в Тэрада-я. Немного фантазии - и всё, паззл сложился.

Людвиг Эльстен покосился на табакерку и тоскливо вздохнул. Курить хотелось до зуда, но после того страшного пожара двухлетней давности околоточные с удвоенным рвением выслеживали нарушителей запрета на курение в домах. Чтобы подымить трубочкой в своё удовольствие, надо было выйти на заметённую снегом веранду, а на это Эльстен сейчас был не способен. Даже мысль о том, чтобы выпростать из-под оделяла уже начавшие согреваться ноги, казалась ужасно непривлекательной.
Именно поэтому отрывистый стук в дверь прозвучал для него, как труба Страшного суда.
Он слишком хорошо знал этот стук – торопливый и требовательный. У дверей дома, где живёт врач, такой стук мог означать лишь одно: кому-то срочно понадобились его услуги. И сейчас придётся вылезать из-под одеяла, натягивать на себя ватное кимоно, брать саквояж с инструментами и тащиться в темноту сквозь бесконечный снегопад, проклиная про себя тот день и час, когда он приехал в эту страну, полный надежд и желания пролить свет новейшей медицинской науки на это гнездо невежества и предрассудков...
Стук повторился, и Людвиг рывком сбросил одеяло. На него порой накатывала меланхолия, но самое желчное настроение не могло помешать ему делать своё дело. А дело врача в первую очередь не терпит медлительности и лени.
Мацу замешкалась – малышка не вовремя захныкала и завозилась – и Людвиг сам вышел в прихожую, называемую здесь гэнкан. Всунул зябнущие ступни в сандалии, дошаркал до наружной двери и отворил засов.
– Добро пожаловать, – на японском он изъяснялся уже довольно бегло, хотя Мацу до сих пор смешил его акцент. – Чем могу быть полезен?
Посетитель, не отвечая, шагнул мимо него в гэнкан. Тщательно задвинул за собой дверь.
И только потом снял с головы облепленную снегом широкополую соломенную шляпу, открыв очень молодое лицо с тонкими, по-девичьи нежными чертами и крестообразным шрамом на левой щеке.
При свете лампы волосы ночного гостя отливали тёмной медью. Как у самого Эльстена.
Под спиной очень кстати оказалась стена, и поэтому Людвиг ухитрился не упасть. Но когда он выпрямлялся, его ноги ощутимо дрожали.
– Добрый вечер, Эрустэн-доно, – негромко сказал гость.
Людвиг судорожно дёрнул головой, надеясь, что это сойдёт за приветственный кивок.
Целый год... целый год он жил спокойно. Слушал от соседей жуткие рассказы о ночных убийствах, вежливо кивал и ужасался в нужных местах, но – крепко держал язык за зубами. И надеялся – ох, как надеялся! – что о нём уже забыли...
– Эрустэн-доно, – взгляд у юноши был спокойный, как у буддийских каменных божков, но пальцы напряжённо стискивали край шляпы. – Пожалуйста, возьмите свои лекарства.
– Что? – беспомощно спросил Людвиг.
– Ваши лекарства, – терпеливо повторил гость. – И инструменты. И всё остальное, что вам нужно.
– А... – Эльстен сглотнул. – Позвольте, так вы ко мне... по делу?
– Да. Поторопитесь, пожалуйста.
– Что произошло? – Дрожь в руках ещё не прошла, но ужас, сковавший сознание, быстро таял, оттеснённый вглубь привычным строем мыслей. – Кто пациент?
Юноша на миг отвёл взгляд.
– Вам скажут. Поторопитесь, пожалуйста, Эрустэн-доно.
– Молодой человек, – Эльстен, уже шагнув обратно в дом, снова развернулся к гостю. – Чтобы взять необходимые принадлежности, я должен знать, с чем мне предстоит иметь дело. Хотя бы приблизительно. Это болезнь или ранение?
– Ранение, – с заминкой проговорил юноша.
– Мужчина, я полагаю? Старый или молодой?
– Тридцать лет.
Эльстен вздохнул про себя. Молодой мужчина, ранение – всё это было знакомо до оскомины. За последний год таких приходилось шестеро на каждую дюжину его пациентов, ибо жители сего достославного города истребляли друг друга с таким же усердием, как холера, бери-бери, чахотка и все прочие недуги, вместе взятые.
Он быстрым шагом метнулся в кабинет, где уже лежала наготове сумка, собранная как раз для таких случаев. Хирургический набор, иглы, кетгут, эфир. Мази, порошки и бальзамы. И немного местной водки из сладкого картофеля – дрянной, как и вся японская выпивка, но шнапса здесь было не достать.
На пороге он чуть не столкнулся с Мацу. Она машинально покачивала на руках уснувшую Ханну, но смотрела – на тень, замершую на бумажной стене между комнатами; на тонкую угловатую тень с хвостом длинных волос, подвязанных высоко на затылке.
– Идёшь? – тихо спросила Мацу.
Людвиг кивнул, виновато разводя руками:
– Я не могу отказать. Я же врач.
– Да, – Мацу наклонила голову. – Нельзя отказывать, если ондзин зовёт. Это твой долг. Возвращайся скорее, муж мой.
– Береги себя, – Людвиг торопливо поцеловал её в лоб.
– Будь осторожен, пожалуйста.
Гость по-прежнему ждал в гэнкане, не разуваясь. Людвиг натянул зимнее кимоно, надел башмаки и взял сумку. Затеплил свечку в фонаре.
– Я готов... господин Баттосай.
Юноша быстро вскинул глаза, но ничего не сказал. Надел шляпу, низко надвинув её на лоб, откинул засов и выскользнул в темноту, исчерченную белыми завитками метели.
– Вы не сказали мне, что за рана, – напомнил Эльстен, выбираясь следом на холод. Его спутник, не оборачиваясь, наискосок провёл ребром ладони по предплечью другой руки.
Рука. Просто восхитительно. Мышцы, сухожилия, сосуды, ульна и радиус – одно удовольствие всё это собирать и сшивать. А потом ещё втолковывать пациенту, что про варварские прыжки с саблей, именуемые здесь фехтованием, следует забыть раз и навсегда...
– Надеюсь, ему не отрубили руку напрочь, – буркнул себе под нос Людвиг.
– Нет, – коротко отозвался Баттосай, но голос его прозвучал не очень уверенно.
– "Нет, но..." – что? – спросил Людвиг.
В слабом мерцании фонаря он успел заметить, что Баттосай на мгновение закусил губы.
– Рана довольно глубокая. Кость не задета...
– Но? – настойчиво повторил Эльстен.
– Лекарь... не может остановить кровь. Уже давно.
– Так, постой-ка... – У Эльстена неприятно захолодело в животе. – Что значит – "давно"? Когда он был ранен?
Баттосай опустил голову.
– Позавчера, – он проговорил это так тихо, что Эльстен насилу разобрал.
"Так где ж ты раньше был?" – чуть не закричал врач. Но сумел сдержаться, только со свистом выпустил воздух сквозь зубы.
– Идём скорее, – отрывисто сказал он.
– Мы уже пришли, – Баттосай указал вперёд. Из темноты громоздким углом выступали ворота какого-то буддийского храма. Под нависающей кровлей приткнулся паланкин, рядом переминались с ноги на ногу замёрзшие носильщики.
Эльстен старался поменьше пользоваться паланкинами – ему претила мысль о том, чтобы ездить на людях, как на бессловесной тягловой скотине. Но не это соображение заставило его попятиться.
На паланкине, белым по чёрному лаку, был нарисован крест, заключённый в круг. Точно такой же герб Эльстен много раз видел на одежде самураев из княжества Сацума.
Лично он ничего не имел против этих парней. Ну, разве что неуёмную драчливость мог поставить им в упрёк – среди всех пациентов с ранами от меча, которых ему приходилось пользовать, чаще попадались именно сацумцы. Он и сейчас не углядел бы ничего необычного в том, что его среди ночи вызывают в резиденцию княжества для оказания помощи очередному забияке.
Вот только юноша по имени Баттосай не был уроженцем Сацума. Он был наёмным убийцей из Тёсю. А Тёсю и Сацума дружили между собой примерно так же, как волки дружат с волкодавами. Эльстен покинул Хаги год назад, но прекрасно помнил, как разъярённые самураи Тёсю писали на подошвах своих сандалий: "Сацума – враг" – чтобы попирать ногами имя ненавистного им клана.
Однако Баттосай спокойно приблизился к паланкину, украшенному вражеским гербом, – а носильщики в одеждах с такими же крестами молча смотрели на легендарного убийцу, ожидая его приказов.
– Садитесь, пожалуйста, Эрустэн-доно. Вас доставят в нужное место.
– А вы, – Эльстен настороженно взглянул на одноместный паланкин, – разве не отправляетесь с нами?
Батттосай качнул головой.
– Я пойду другой дорогой. И... прослежу, чтобы вам никто не помешал.
Он шагнул в сторону и мгновенно растаял в снежной мгле.
Носильщики ждали. Эльстен тяжело вздохнул и полез в паланкин.
...Сходя с корабля на японскую землю, он меньше всего собирался вникать в отношения кланов, их вражду с правительством сёгуна и прочую междоусобную грызню. "Я всего лишь врач, я просто лечу людей," – он держался за эту мысль как за спасательный круг, он дал себе зарок не касаться политики...
Каким же он был тогда наивным дураком! Как можно обещать себе не касаться воды, отправляясь в море на утлой лодке? Море не спрашивает твоего согласия – один удар волны, и ты уже за бортом.
***
Поначалу он даже не насторожился. Косые взгляды и злой шёпот за спиной, комья грязи, брошенные исподтишка уличными мальчишками, – всё это успело стать привычным, как мозоль от разношенного, но всё ещё жмущего сапога. Иностранцев в Тёсю ненавидели ещё сильнее, чем собственное правительство. Не спасало даже то, что Эльстен был голландцем, то есть из числа тех иностранцев, с чьим существованием японцы худо-бедно смирились. Голландец, который не сидит безвылазно в стенах фактории, а приезжает в Хаги, из заморской диковинки становится угрозой. А уж если его угораздило влюбиться в местую женщину...
Он мог только догадываться, что пришлось перенести Мацу, какой поток злобы и презрения обрушили невежественные соотечественники на ту, что осмелилась стать женой иностранца. Даже несчастные падшие женщины, до которых дотронулись руки "южных варваров", становились почти что париями, отверженными среди товарок по недостойному ремеслу. А ведь Мацу жила в доме чужака, готовила ему еду, носила его дитя...
О том, что их ждёт прибавление в семействе, они узнали осенью. Людвигу всегда хотелось иметь дочку, Мацу надеялась на сына – "потому что девочку никто не возьмёт замуж, господин мой, а сын, если он будет храбр, сможет выйти из тени своего происхождения". И как-то само собой вышло, что все их помыслы, надежды и страхи сосредоточились на ещё не рождённом ребёнке, и, думая лишь о нём, они совершенно перестали обращать внимание на то, что творилось вокруг. Провинцию лихорадило, шли аресты высокопоставленных чиновников, падали головы знатных самураев, уличённых в содействии летнему мятежу, – а Людвиг и Мацу замкнулись в своём маленьком мире, забыв о тревогах мира внешнего.
А потом начались погромы.
Эльстена предупредил сосед. Он держал овощную лавку и не любил иностранцев, но однажды, когда его скрутила острейшая желудочная колика, из всех врачей рядом оказался только иностранец. После того случая лавочник относился к Эльстену со смесью неприязни и опасливого уважения. И именно он разбудил врача среди ночи, подарив лишний час времени перед тем, как ревнители "служения императору и изгнания варваров" добрались до их дома.
Эльстен не представлял, куда деваться среди ночи в охваченном беспорядками городе, да ещё и с беременной женщиной. Но, увидев, как Мацу, придерживая руками тяжёлый живот, снуёт по дому и увязывает вещи в узлы, – осознал, что где угодно будет безопаснее, чем в доме, когда за ними придут.
Они не смогли взять много вещей. Деньги, инструменты и лекарства, немного еды, немного тряпок – вот и всё, что мог унести на себе Эльстен, не надрываясь; а Мацу уже нельзя было носить тяжести. Но даже с этим не слишком обременительным грузом они шли медленно и ещё не успели отойти далеко от брошенного дома, когда им преградили дорогу шесть крепких молодчиков, каждый с парой кривых мечей за поясом.
Эльстен попятился к ближайшей стене, загораживая собой Мацу. Один из незнакомцев почти ткнул ему в лицо бумажный фонарь на палке и радостно оскалился, узнав в жертве иностранца.
– Я врач, – как можно громче и отчётливее проговорил Эльстен, уповая на то, что его японский не настолько плох, как говорила Мацу. – Я лечу людей. Мы никому не причинили вреда.
Его слова отскакивали от них, как брошенный об стенку горох. Человек с фонарём выплюнул какое-то ругательство, а другой шагнул вперёд и не спеша потащил меч из ножен.
Жёлтый блик света на стали как будто парализовал Эльстена. Он застыл, нелепо растопырив руки, словно пугало; в голове метались обрывки молитв и японских слов. Мацу за спиной молчала, только дышала быстро и часто. Не дай бог, начнутся схватки от испуга, машинально подумал Людвиг и тут же с ошеломляющей ясностью осознал, что это уже не имеет значения. Их жизнь, их любовь, их ребёнок – занесённый над ними меч разом приравнял всё это к нулю как ничтожно малую, не принимаемую в расчёт величину...
Кажется, он закричал тогда. Кажется, он звал на помощь – только не мог потом вспомнить, по-голландски или по-японски; и только божьим попущением можно объяснить то, что его мольба была услышана.
В тот миг, когда нападающий размахнулся, Эльстену почудилось, что его хлестнуло по лицу внезапным порывом ветра. Короткий свист, лязг столкнувшихся лезвий и треск разрубленного дерева слились в один звук; следом зазвенел о камни меч, будто сам собой вылетевший из руки самурая. Палка в руках его товарища разделилась надвое, фонарь упал на землю, бумага вспыхнула высоким огненным языком.
На несколько мгновений стало светлее, и ошеломлённый врач увидел, что между ним и погромщиками кто-то стоит. Обрисованный пламенем чёрный силуэт казался невысоким и хрупким, словно бестелесным, на растрёпанных волосах горел золотой ореол – и в это мгновение Людвиг Эльстен понял, как выглядят на самом деле ангелы-хранители.
У ангела не было крыльев. Зато в деснице у него сиял меч, небрежно опущенный кончиком к земле.
– Ах, ты!.. – прорычал обезоруженный самурай. Наклониться и поднять выбитый меч он не решился, но остальные пятеро мигом обнажили клинки.
Ангел не двинулся с места. Только повернул голову к правому плечу – и этот простой жест отчего-то поверг нападающих в смятение.
– Хитокири Баттосай! – выдохнул один из них.
Все замерли, словно их разразил столбняк. Потом тот, что стоял с краю, медленно опустил меч, нащупал левой рукой ножны и спрятал клинок. Всё это он проделал медленно и осторожно, не сводя взгляда с щуплой, вроде бы безобидной фигурки. Остальные по очереди последовали его примеру. Когда последний из них убрал оружие, ангел слегка качнул головой.
– Уходите. – Голос у него был высокий, мальчишеский, совсем не грозный, но Эльстен уже достаточно поднаторел в японском, чтобы отличать форму вежливой просьбы от формы грубого приказа. А это была именно приказная форма, превращающая простой глагол во что-то вроде "Катитесь отсюда, чтобы духу вашего тут не было!"
И шесть человек, шесть взрослых мужчин с оружием безропотно развернулись и исчезли в соседнем переулке, только что не откланявшись на прощание.
Неожиданный заступник тоже убрал меч и повернулся к спасённым. Голос не обманул: на вид ему можно было дать от силы лет пятнадцать, и лицом он вполне походил на ангела – таких тонких и правильных черт Эльстен до сих пор не встречал ни у одного японца. Но теперь стало понятно, что именно в этом лице напугало погромщиков: левую щёку мальчика крест-накрест пересекали два шрама. Один – старый, давно зарубцевавшийся, второй – потоньше и свежий на вид.
Мацу тихонько вскрикнула и прижала ладонь ко рту.
– Благодарю вас. – Людвиг поклонился, судорожно припоминая все свои познания насчёт японского этикета. – Благодарю вас от всего сердца.
– Вам нельзя здесь оставаться, – сказал мальчик. – Хаги сейчас плохое место для чужаков. Уходите из города. А лучше уезжайте совсем.
– Простите, – выдохнул Людвиг, – вас, кажется, зовут Баттосай?
– Да.
– Видите ли, господин Баттосай, моя жена... ей уже скоро рожать. Она не может идти далеко. Нельзя ли укрыться где-нибудь в городе?
Мальчик снова покачал головой; свет метнулся по его волосам, и Людвиг понял, что они не просто отливают медью – они и впрямь рыжие. Чудеса, да и только...
– Вас никто не будет прятать. Люди обозлены, они хотят смерти иностранцев.
– Я всего лишь врач. Мы ни в чём не виноваты...
– Они не будут спрашивать, виноваты вы или нет, – перебил его мальчик. – Если не выберетесь из города, до утра не доживёте.
Догорающий фонарь вспыхнул напоследок и погас. Снова навалилась темнота, ещё более непроглядная для привыкших к свету глаз. Эльстен на ощупь нашёл холодную руку Мацу.
– Тогда, может быть, – собственный голос показался ему слабым и дрожащим, – может быть, вы поможете скрыться хотя бы моей жене? Она японка, за ней не будут охотиться. Может быть, хотя бы её...
– Нет! – Мацу с неожиданной силой стиснула его руку. – Я никуда не уйду без тебя!
И, цепляясь за него, тяжело опустилась на колени, прежде чем Эльстен смог её удержать:
– Господин Баттосай, я знаю, кто вы. Я знаю, что такое ничтожное создание, как я, не вправе просить вас о помощи. Но я прошу не ради себя, а ради моего мужа и моего ребёнка, которые никому не сделали зла. Господин Баттосай, умоляю, помогите нам!
– Если вы знаете, кто я, – из мрака донёсся короткий вздох, словно от боли, – то вы должны знать и то, что я не спасаю людей. Я умею только убивать.
– Я знаю. Но вы единственный в этом городе, кто сжалился над нами.
Глаза Людвига заново привыкали к темноте. Теперь он уже мог различить замершую перед ними тень Баттосая – такую же неясную и смутную, как их надежда на спасение.
– Как вас зовут? – спросила тень.
– Я Людвиг Эльстен, – торопливо ответил врач. – Мою жену зовут Мацу.
– Эрустэн, – повторил Баттосай, привычно коверкая его имя на японский лад. – Возьмите вещи и помогите госпоже Мацу подняться. И следуйте за мной.
***
...Эльстен не взял с собой часы, но по его ощущениям времени прошло уже много – гораздо больше, чем требовалось, чтобы дойти от его дома до киотской резиденции клана Сацума. Паланкин мерно покачивался на плечах носильщиков, и только волнение и холод не давали врачу уснуть. Украдкой выглядывая из-под занавески, он пытался определить, где они находятся, но ему ничего не удалось разглядеть, кроме летящего снега в кругу света перед фонарём.
Потом паланкин качнулся сильнее и опустился на твёрдую поверхность. Один из носильщиков поднял занавеску и сделал приглашающий жест. Людвиг выбрался наружу, растирая затёкшие ноги...
...и чуть не наступил в лужу крови.
Лужа растекалась вдоль стены, у которой стоял паланкин. Она была большая, неправильной формы, и с другого края от неё отходили две неровные борозды, уводящие от стены в какие-то заросли. Оглядевшись, Эльстен заметил ещё две лужи чуть поодаль – и от каждой к зарослям тянулись такие же борозды, чёрные на белом снегу.
Врач сглотнул сухой комок в горле. Если зрение его не обманывало, на этом месте убили троих людей и оттащили тела в кусты. И случилось это совсем недавно – падающий снег ещё не начал заметать кровавые следы, не схватывался ледяной корочкой, а сразу намокал и таял.
– Поторопитесь, – Баттосай выступил из снегопада, как призрак или дух зимней ночи. – Вас не должны здесь видеть.
– А... – Эльстен судорожно дёрнул подбородком, указывая на пятна крови.
– Соглядатаи. – коротко ответил юноша. – Были. Идите скорее.
В том месте, куда подтекла кровавая лужа, в стене была прорезана даже не дверь, а маленькая узкая дверца. Один из носильщиков уже открыл её и ждал, почтительно согнувшись. Эльстен сглотнул, перешагнул через лужу, стараясь не замочить башмаки, и боком пробрался внутрь. Баттосай проскользнул следом – в отличие от упитанного врача, ему не пришлось для этого ни пригибаться, ни изворачиваться.
Во дворе их уже ожидали. Трое вооружённых самураев в накидках с гербами Сацума, при виде которых Эльстену опять захотелось протереть глаза. Паланкин мог быть украден. Носильщики – переодеты. Но трое самураев в парадном платье – это было уже слишком для возможной подмены. А по другую сторону двора, освещённого факелами и фонарями, тянулось длинное здание, и перед крыльцом висели два белых флага с чёрными крестами в круге.
По всем признакам это была резиденция клана Сацума – но не та, в которой Эльстену уже доводилось бывать. Здешнее строение было поменьше, а двор – не такой просторный. Видимо, носильщики доставили его куда-то в пригород, в одну из местных усадеб, принадлежащих клану.
– Сюда, пожалуйста, – один из самураев указал на левый флигель и сам пошёл вперёд. Эльстен поспешил за ним, наказав себе ничему не удивляться и ни о чём не думать, кроме дела.
Его без задержек провели по длинной веранде, по коридору, слабо освещённому мерцанием ламп из-за оклеенных бумагой перегородок, и впустили в комнату, обставленную столь же скудно, как и всё японское жильё.
Здесь было немного светлее, но душно от обилия свечей. Эльстен задержал дыхание: в комнате пахло палёным. Прижигали рану? Или просто жгли перья, чтобы привести больного в чувство? Но запах крови был сильнее всего. В небольшом замкнутом пространстве он просто оглушал.
Пациент лежал на футоне, накрытый по пояс одеялом. Обе его руки были перевязаны, левая – от локтя до основания пальцев, правая – только ладонь и запястье. У изголовья сидела какая-то девица, собирая испачканные бинты с подноса в корзину; на скрип половиц она обернулась и подняла голову.
Такие лица, как у неё, Эльстен видел почти в каждом доме, куда его звали. Серые от усталости и тревоги, с погасшими, отчаянными глазами, в которых сквозь отупение бессонницы вдруг зажигается огонёк сумасшедшей надежды. В такие минуты он готов был отдать что угодно, лишь бы оправдать эту надежду, эту внезапно вспыхнувшую веру в чудо.
Он подошёл к постели, сел на циновки, поставил рядом сумку. И в первый раз взглянул на лицо пациента.
Зажмурился на мгновение.
Да что за день такой сегодня? День призраков из прошлого?
Ничему не удивляться, напомнил он себе. И забыть. Забыть обо всём, кроме дела.
...дыхание учащённое, пульс быстрый, плохого наполнения, лоб просто пылает, глаза под веками закачены.
– Когда начался жар? Как давно он не приходит в себя?
...испарины нет, губы сухие, глаза запали, кожа на лице стянута.
– Вы давали ему воду? Сколько? Когда он в последний раз мочился?
На правой руке повязки чистые, на левой сквозь бинты уже проступило большое пятно крови – и видно, что всё ещё подтекает. Но пальцы тёплые, не омертвевшие.
– Вымойте руки и помогите снять повязку. Нет, отрывать не надо, смочите здесь водой.
Рану, конечно, прижигали. Дикари, коновалы... ах, нет, и зашивать тоже пытались, смотрите-ка. Сшили кожу и наружный слой мышц – и, конечно, рассечённые сосуды продолжали кровоточить внутри, и под давлением крови шов расходился. Наверное, после этого и решили прижечь. Олухи, тупицы, идиоты безмозглые... и ещё, поди, удивились, отчего бедолаге стало только хуже.
Если после всех этих издевательств ему удастся сохранить руку – это будет чудо. Впрочем, нет, чудо уже то, что при таком лечении он до сих пор жив. Повезло, что парень исключительно крепкой конституции – по меркам здешнего народца, почти великан. И физическое развитие превосходное... впрочем, для моряка это не редкость...
Лишние мысли, Людвиг. Лишние и ненужные.
– Дайте-ка поднос. Ткань чистая? Положите сюда. Будете подавать мне инструменты.
...а сухожилия не задеты, вот удача-то. И главные артерии уцелели. Воспаление, конечно, обширное, но гноя немного, гангренозного запаха нет – и это спасение, потому что резать сейчас нельзя, лишняя кровопотеря его просто прикончит. Вычистить, обработать и шить. И молиться, чтобы обошлось без повторного нагноения.
– Дайте ланцет... вот этот маленький ножик. И держите вот здесь.
...и аккуратно – по веточке, по жилке, сосуды и мышцы... а кожу пока можно скрепить несколькими стежками, на случай, если придётся открывать заново... И протереть ещё раз водкой.
Течёт ещё? Не течёт?
Господи, на всё воля Твоя...
Не тёчёт. Сочится по краям чуть-чуть – и всё.
Чистый бинт. В рубашке ты родился, парень.
А я ведь даже не знаю, как тебя зовут. И не хочу знать. Меньше знаешь – крепче голова на плечах держится...
Эльстен разогнул хрустящую от напряжения спину.
– Принесите ещё воды. Холодной – для компресса... э-э... для примочек. Тёплой – для питья. И скажите повару, или кто у вас тут готовит, чтобы он сделал бульон... отвар из курицы. – При мысли о курице у него самого засосало под ложечкой. – И мне что-нибудь принесите поесть. Что угодно... хотя бы рисовый колобок.
***
...Он боялся спрашивать, куда Баттосай ведёт их. Городские кварталы остались в стороне, как и портовые постройки. Они пробирались в темноте по какой-то тропинке через цепкий кустарник, и Мацу уже совсем выбилась из сил, и Эльстен насилу переводил дыхание, а их проводник всё шагал впереди, легконогий и неутомимый, словно Меркурий, ведущий две заблудшие души в языческий Аид.
Сначала Эльстен услышал мерный шум прибоя, потом заросли расступились, и вместо каменистой земли под ногами захрустела галька. На берегу было чуть-чуть светлее, в небе над морем плыл стареющий месяц, и вдруг у воды, как его отражение, дважды мигнул второй огонёк – луч потайного фонаря.
Баттосай прибавил шагу, и Эльстен, собирая последние силы, почти таща за собой спотыкающуюся жену, поспешил за ним.
– Кто здесь? – окликнул из темноты грубоватый мужской голос. Фонарь погас.
– Я, – отозвался Баттосай.
– А кто с тобой?
– Они не опасны. Это городской врач и его жена.
– Ты рехнулся? – удивился голос. – Зачем ты их сюда притащил?
– Стойте здесь, – бросил через плечо Баттосай и пошёл один в ту сторону, откуда доносился голос.
Дальше Эльстен не мог расслышать. Баттосай, видимо, приблизился вплотную к собеседнику, потому что перешёл на быстрый шёпот; ему отвечали так же тихо и, кажется, сердито. До беглецов долетали только отдельные слова: "С нами?.. Нет, ну ты соображаешь?.. Да какие ещё обстоятельства?.. Ой, Химура-кун, ну ты даёшь..."
Потом фонарь снова вспыхнул и поплыл в их сторону. Донёсся хруст тяжёлых шагов по галечному берегу; световое пятно приблизилось, охватывая сначала Эльстена, потом повисшую на его руке Мацу.
– Так бы сразу и сказал, – после недолгого молчания произнёс голос. – "Обстоятельства", тоже мне...
Эльстен по-прежнему не мог разглядеть лица говорившего. Видел только рослую фигуру, чёрную на фоне чуть серебрящегося моря.
– Пойдёмте, – сказал человек с фонарём.
Идти пришлось недалеко: у кромки воды стояла наполовину вытащенная на берег лодка. Рядом с лодкой обнаружились ещё двое мужчин; человек с фонарём успокоил их удивление несколькими короткими словами. Дальше всё пошло как по маслу: обессилевшую Мацу почти на руках перенесли в лодку, туда же бросили узлы, освободив Эльстена от ноши, и помогли самому Эльстену перебраться через борт. Высокий парень и его товарищи налегли, лодка сошла с отмели, все по очереди запрыгнули внутрь и разобрали вёсла. Лодка заскользила на открытую воду.
Они плыли в темноте, горизонт был чёрным и пустыми, но высокому парню, вставшему у рулевого весла, видимо, хватало и звёзд. Из ниоткуда вдруг воздвигся стеной корабельный борт. Сверху окликнули, один из гребцов ответил, над фальшбортом поднялся стеклянный глаз фонаря, а вслед за ним сбросили верёвочный трап.
Рулевой перебрался к Мацу и повернулся к ней спиной.
– Залезайте и держитесь крепко.
– Что? – растерялась Мацу. Парень вздохнул.
– Вы не сможете туда забраться. Я вас подниму.
– Я... тяжёлая.
– Я и не такие тяжести носил. Залезайте и держитесь.
Мацу в замешательстве обернулась к мужу.
– Делай, как он говорит, – кивнул Людвиг. Мацу уцепилась руками за шею парня, повиснув у него на спине. Тот ухватился за трап и полез наверх. Людвиг с беспокойством проследил за подъёмом, но парень и впрямь был силён, и вес женщины ни разу не заставил его потерять опору.
Вслед за ними полез сам Эльстен. Трап мотало, норовя ударить о борт, лодка ёрзала внизу, раскачивая верёвочную опору, но Эльстен благополучно добрался до верха и оказался на палубе рядом с Мацу. Следующим к ним присоединился Баттосай – этот не только вскарабкался по трапу быстро и бесшумно, как ящерица, но и захватил с собой вещи Эльстена.
– Что это за судно? – спросил Людвиг, принимая у него узлы.
Вместо него ответил рослый парень:
– Ступайте вниз, господин врач. И без лишних вопросов, пожалуйста.
Баттосай провёл их в трюм. Помог Мацу спуститься по узкой лесенке, показал Эльстену свободный пятачок между наваленными тюками и исчез, забрав с собой свечу.
Они остались в темноте но это их уже не пугало. Возможность сесть и вытянуть усталые ноги, осознание того, что главная опасность позади, отдалённый грохот якорной цепи, возвещающий о скором отплытии – всё это было таким облегчением после перенесённого страха, что прочие тревоги неопределённого будущего отступили на задний план. Мацу тихонько заплакала, прижавшись к плечу мужа; Людвиг обнял её и долго не решался разжать руки.
Они, наверное, так и заснули бы, устав от переживаний, но люк снова приоткрылся, и сверху спустился человек. На этот раз он нёс лампу со свечой, но по росту и голосу Эльстен признал в нём того, кто первым встретил их на берегу и нёс Мацу на спине.
– Извините за такой приём, – парень пристроил лампу на полу и сел рядом на корточки, – но чем меньше вы будете знать, тем лучше. Для вас самих лучше.
– Я понимаю, – поспешно ответил Эльстен. – Мы уже причинили вам много хлопот и не хотим причинять ещё больше. Но могу я хотя бы узнать, куда мы направляемся?
– В Хёго, – отозвался парень. Теперь Эльстен мог без помех разглядеть его лицо, но старался не вглядываться пристально, чтобы не показаться невежливым или, хуже того, любопытным. Тем более что лицо у его собеседника было самое обычное, не слишком красивое, с тяжёлыми бровями и длинной лошадиной челюстью. Впечатление скрашивали только волосы, густые и вьющиеся, как у европейца, и глаза – цепкие, ясные, живые.
– Вы, наверное, предпочли бы в Нагасаки, – продолжал парень, – но нам это не по пути. Уж не взыщите.
– Напротив, – радостно возразил Эльстен. – В Хёго – это прекрасно. Видите ли, я имел знакомство с господином Кацу Кайсю, и если он ещё там, то мы сможем обратиться к нему. Помнится, он высказывал желание пригласить в Киото врача-европейца...
– Так вы знаете Кацу-сэнсэя? – в свою очередь удивился парень. – Ну и дела!
– У нас говорят: мир тесен, – улыбнулся Эльстен.
– Вот-вот... – Парень покосился на Мацу, скинул парусиновую куртку и бросил на колени Эльстену. – Пусть ваша супруга пока набросит это, а я поищу вам пару одеял. И вот ещё, подкрепитесь.
Поверх куртки лёг свёрток – два рисовых колобка, завёрнутые в банановый лист.
– Спасибо, – растерянно поблагодарил Эльстен.
– И, это... Когда увидитесь с господином Кацу, передавайте ему поклон.
– От кого? – вопрос вырвался у Эльстена быстрее, чем он вспомнил про обещание не задавать вопросов. Но парень не рассердился.
– Просто... от ученика. Он поймёт.
***
Для отдыха Эльстену отвели отдельную комнату. Наказав молчаливой сиделке разбудить его, если больному станет хуже, врач сбросил верхнюю одежду и улёгся, натянув одеяло до носа. Напрасный труд: сон так и не шёл к нему. Снова и снова припоминая события годичной давности, сопоставляя их с событиями сегодняшней ночи, он пытался понять, во что именно он впутался и какое место во всём этом занимают таинственный контрабандист, о чьём здоровье так заботится клан Сацума, и хитокири Баттосай, ночной убийца, чьим именем в Киото пугают детей. Кто были те "соглядатаи", которых Баттосай устранил с лёгкостью шахматиста, снимающего вражеские фигуры с доски одну за другой. Что за груз вёз таинственный корабль, ушедший из Хаги без огней и опознавательных знаков.
Его не покидало ощущение, что он стал свидетелем каким-то очень важных, возможно, судьбоносных событий – но для него это всё выглядело цепочкой сплошных загадок. Несомненным было лишь одно: и участники этих событий, и случайные очевидцы вроде него самого – все они серьёзно рискуют. И чем сильнее его затягивает этот водоворот, чем ближе он к зрачку урагана, тем меньше его шанс выбраться оттуда живым.
...А поклон господину Кацу он всё же передал – правда, не в Хёго, а уже в Осаке. И запомнил, как просветлело лицо опального министра, когда Эльстен рассказал ему, где встретил человека, назвавшегося учеником Кацу Кайсю...
Он, видимо, всё же задремал: мысли спутались, а когда он открыл глаза, свеча уже наполовину сгорела. От дверей донёсся шорох; Эльстен поднял голову:
– Кто там?
– Это я, Эрустэн-доно.
Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы Баттосай проскользнул внутрь.
– А... – Эльстен потёр лицо ладонями; голова была тяжёлой. – Как... наш пациент?
– Ему лучше. Он уже приходил в себя, ненадолго. Поел и опять заснул.
– Я так понимаю, – Эльстен откашлялся, – мне опять лучше не задавать вопросов?
– Да, Эрустэн-доно. Вы правильно понимаете. – Баттосай опустился на пол. – У меня для вас плохие новости.
Эльстену показалось, что свеча погасла – так потемнело в комнате. Или, может, потемнело у него в глазах. Воздуха внезапно перестало хватать; он услышал свой голос, странно и глухо отдающийся в ушах:
– Мацу?
– Ваши родные живы и в безопасности.
Эльстен моргнул, разгоняя тёмный туман перед глазами.
– Тогда?..
– Вам снова придётся уехать. Может быть, кто-то увидел вас ночью, а может быть, соседи донесли. Перед рассветом в ваш дом пришли стражники магистрата.
– И что? – Эльстен с трудом удержался от крика.
– Там был я, – просто ответил Баттосай.
Врача передёрнуло. Перед глазами снова встала ночная картина: лужи крови на снегу – и ни следа тел.
– Ваша жена собрала необходимые вещи. – Голос юноши был бесцветным, и говорил он короткими отрывистыми фразами – словно рыбу пластал на доске. – Я проводил её с дочерью в резиденцию Сацума в городе. Там до них никто не доберётся. Но скрыть такое количество убитых возле вашего дома невозможно. Если вы останетесь в Киото, вас схватят. Так что вам придётся переселиться в другой город.
– Что ж... – Эльстен подавил тяжёлый вздох. Мацу и малышка в безопасности, и что в сравнении с этим значит потеря очередного обжитого гнезда и очередной практики? Всё лучше, чем познакомиться с местными тюрьмами.
...И тут его догнало. Стукнуло, как обухом по лбу.
– По... позвольте, как вы сказали? Сколько убитых?
Баттосай повернул к нему голову, и Эльстена затрясло – такое пустое и безжизненное у него было лицо, словно это он, а не тот парень за стенкой, медленно истекал кровью, день за днём.
– Одиннадцать.
– И вы... – Матерь Божия, ведь он же просто дитя; даже в этой безумной стране, где выходят замуж в тринадцать лет и умирают от старости в сорок пять, – даже по их меркам он ещё сущий ребёнок... – Вы... их всех... убили?
– Иначе они арестовали бы вашу жену, – Баттосай опёрся спиной о дверной косяк и как-то сразу обмяк, словно из него вынули стержень, дающий силу держаться прямо. – Я не мог этого допустить.
– Простите, – чем больше Эльстен приглядывался к нему, тем меньше ему нравилось серое лицо юноши и его бескровные губы. – Вы сами-то... в порядке? Разрешите вас осмотреть?
Баттосай покачал головой.
– Я не ранен. Просто... устал немного. – Он прислонился затылком к стене и прикрыл глаза. – Простите, Эрустэн-доно. Я подверг вас опасности, вызвав сюда, но выбора не было. Никто, кроме вас, не смог бы это сделать.
– Я делал то, что был должен. Как врач, принёсший клятву и как человек, который обязан вам всем. Вы ведь мой... благодетель.
Он не был уверен, что правильно употребил слово, которое говорила ему Мацу. Ондзин – тот, кому ты обязан жизнью или чем-то столь же важным, как жизнь. Тот, перед кем ты в долгу; и хоть этот долг не утверждён распиской или векселем, но твоё отношение к этому долгу будет мерой твоей чести. Или бесчестия.
Ему очень хотелось, чтобы Баттосай понял его.
– Мне... неплохо жилось в Киото. Но я никогда не забывал, кому обязан этой жизнью. И я рад, что смог хотя бы отчасти выплатить этот долг. По сравнению с этим ещё один переезд – сущий пустяк, господин Баттосай. В конце концов, я всегда могу вернуться в Нагасаки. – Эльстен улыбнулся как можно беззаботнее. – Я немного соскучился по звуку родной речи. К тому же, я давно обещал Мацу настоящее европейское платье.
– Мы поплывём в Кагосима. – На лице Баттосая наконец-то появилось нечто похожее на ответную улыбку. – Как только... ваш пациент достаточно окрепнет для путешествия. Но до Нагасаки оттуда совсем недалеко. Я тоже хотел бы как-нибудь побывать там.
– Обязательно приезжайте, – подхватил Эльстен. – Едва ли мне представится случай спасти вам жизнь. Но я всегда готов отплатить вам прогулкой по городу и хорошим обедом.
***
Уже много позже...
...когда остались позади и война, и послевоенные волнения...
...когда давно перестали быть тайной и союз двух кланов, объединившихся в борьбе против сёгуната, и роль, которую сыграл в этом заговоре некий Сакамото Рёма, бывший ученик Военно-морской школы под руководством Кацу Кайсю...
...когда слово "иностранный" из ругательного стало модным...
...когда Людвиг Эльстен, доктор медицины, уважаемый врач и дипломат, получил назначение на пост консула Нидерландов в Нагасаки...
В этот знаменательный день, принимая поздравления от друзей, подчинённых и представителей японских властей, он жалел только об одном: что долг, лежащий на нём со времён Бакумацу, так и остался незакрытым.
Человек, известный под именем хитокири Баттосая, пропал без следа в сумятице двухлетней гражданской войны. Убийца с сердцем ребёнка и судьбой, затерянной в потёмках смутного времени; ночной призрак, исчезнувший при свете дня.
Его личный ангел-хранитель.
Его ондзин.
@темы: Меч и сердце, От Бункю до Мэйдзи, Записки на бумажном журавлике, Колокольчик на гербе, револьвер за пазухой
Размер: драббл
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Камия Каору
Категория: гет
Жанр: флафф, повседневность
Рейтинг: G
От автора: Немножко шиппинга после окончания арки "Возмездие".

Каору закрыла ставни. Теплее всё равно не стало – комната так выстыла, что сёдзи с изнанки покрылись тонкими иголочками инея. А Мэгуми предупреждала, что Кэнсину сейчас никак нельзя болеть: когда запас выносливости почти исчерпан, даже обычная простуда может быть опасна.
...После возвращения с острова он стал часто засыпать среди бела дня. В первый раз, застав его спящим на кухне, над миской с недочищенными овощами, Каору перепугалась не на шутку. Разбуженный чуть ли не пинками Кэнсин долго извинялся и уверял её, что ничего страшного не случилось, бежать к врачу не надо, и вообще, он прекрасно себя чувствует, вот так вот. Он уже спрашивал у госпожи Мэгуми, и та подтвердила: это всего лишь усталость после сильных нагрузок. Она же и посоветовала не бороться с сонливостью, а побольше прислушиваться к желаниям своего тела. Хочется есть – значит, надо есть. Хочется спать – надо спать. Тело умное, оно само знает, что ему сейчас нужно для восстановления сил.
Каору немного успокоилась, но продолжала приглядывать за ним – правда, потихоньку, чтобы не надоедать. Впрочем, и Кэнсин с того раза не пытался спать над разделочной доской с ножом в руке, а уходил в свою комнату и ложился. Выждав немного, Каору на цыпочках прокрадывалась следом, убеждалась, что он заснул, и шла в тренировочный зал – предупредить Яхико, чтобы не стучал синаем по чучелу, а отрабатывал одиночные ката.
Сегодня Яхико ушёл помогать Таэ и Цубамэ – по случаю холодной погоды их ресторанчик был переполнен желающими выпить, и девушки просто сбивались с ног. В додзё было тихо, и будить Кэнсина не хотелось – таким спокойным было во сне его лицо с наконец-то разгладившейся морщинкой между бровей.
Каору сняла ватную накидку, порадовавшись, что успела походить в ней по дому – теперь одежда была ещё и тёплой изнутри. Набросила Кэнсину на свободное плечо. Одной полой прикрыла ему спину, другую попыталась запахнуть на грудь – но меч мешал...
Дура! Ой, дура!
Она застыла, придерживая сползающую накидку – одной рукой у него на спине, другой на груди – и не смея двинуться с места. За считанные мгновения в памяти пронеслись его рассказы о прошлом: как он привык спать в этом странном положении, держа оружие под рукой, потому что хитокири, утративший бдительность, – мёртвый хитокири... И как Томоэ один раз попыталась вот так укрыть его во время сна, не зная, что он и во сне чувствует любое прикосновение, а меч выхватывает даже раньше, чем просыпается...
Каору перевела дух. Ну, положим, своим сакабато он её не зарежет, даже на рефлексах. Но ведь сам себя потом со свету сживёт!
Однако Кэнсин не шевелился и дышал так же размеренно. И вроде пока не собирался хвататься за оружие, хотя... Каору только сейчас осознала, что не просто касается, но и почти обнимает его, стоя рядом на коленях.
Если бы только меч не мешался...
Она осторожно выпустила накидку. Дыхание Кэнсина не сбилось. Каору сдвинулась чуть в сторону, чтобы в случае чего быстро упасть и откатиться. А потом решительно взяла его за руку, сжимающую меч.
И... эта рука без сопротивления выпустила оружие, уступив мягкому нажиму её пальцев. Каору отложила сакабато в сторону и подняла с пола накидку. Уже совсем расхрабрившись, приобняла спящего и чуть потянула на себя, чтобы протащить накидку за его спиной и надеть на оба плеча, как положено.
Кэнсин пошевелился. Но и на этот раз не проснулся, только вздохнул чуть глубже и пробормотал:
- Каору, – тихо, но внятно.
Это был первый раз, когда она услышала от него просто "Каору". Без всегдашней "госпожи".
И захотелось – до звона в висках захотелось просто сомкнуть руки. И прижаться – щекой к щеке, грудью к груди, теплом к теплу. Потому что... ну, правда, сколько можно ждать, пока он сам сообразит, что обниматься надо не с мечом?
Никакого терпения ведь не хватит!
Каору беззвучно закусила губу. Прислушалась – он опять дышал ровно и сонно. Осторожно натянула на его плечи ещё тёплую накидку, запахнула поплотнее, стянула завязки на груди. Меч положила в токонома, на подставку.
И тихо-тихо прикрыла за собой дверь.
Пусть спит. И поправляется.
Остальное – подождёт.
Название: О тонкостях чайной церемонии
Размер: мини
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Синомори Аоси
Категория: джен
Жанр: повседневность, отчасти философия
Рейтинг: G
От автора: О том, как Кэнсин всё-таки пригласил Аоси выпить чашечку чая. В манге этот момент оставили за кадром, в аниме обыграли достаточно забавно, но мне захотелось чего-то более многозначительного. Про то, что Аоси из клана Кока (Кога) - мой хэдканон, в первоисточнике на это нет указаний.
А ещё к этому тексту heiseihi нарисовала чудесный арт! Полюбоваться можно здесь.

Если хочешь сделать человеку хороший подарок – дари то, что нравится ему, а не тебе. Тем более, если твой долг перед этим человеком так велик, что расплатиться удастся разве что в следующей жизни, а приглашение на чайную церемонию – единственный доступный тебе способ выразить, насколько ты ему благодарен.
Поэтому Кэнсин встал раньше обычного, ещё до рассвета, и сходил к храму за четыре квартала от дома, где был источник с хорошей водой. Потом пробежался до рынка, купил сладостей и ещё полчаса бродил по чайному ряду, выбирая подходящий сорт. Потом два раза подмёл двор, полил садовую дорожку водой и попросил у госпожи Каору разрешения достать из кладовки старинный чайный прибор, принадлежавший её почтенному деду.
Ещё нужны были цветы. К счастью, в саду росли два хризантемовых куста, и на одном уже распустились бутоны. Кэнсин срезал три цветка – те, что были со стороны забора и не очень бросались в глаза. Госпожа Каору огорчилась бы, если бы он испортил её куст. Трёх хризантем показалось маловато, и он добавил ещё несколько найденных в траве колокольчиков. Получилось очень мило: белое к лиловому.
К полудню госпожа Каору, госпожа Мисао и госпожа Мэгуми ушли в город за покупками, и можно было, никому не мешая, приступить к чаепитию. Кэнсин поместил в токонома маленькую бамбуковую вазу с цветами, расставил всю утварь по местам, развёл огонь в жаровне и с удовлетворением оглядел дело своих рук. Не хотелось ударить в грязь лицом перед таким ценителем, как Синомори Аоси.
– Ты очень кстати, – сказал Аоси в ответ на приглашение. – Собираясь в Токио, я тоже взял с собой чай и намеревался угостить тебя, но обстоятельства помешали.
– Твой покорный слуга мало что смыслит в правильном приготовлении чая, – признался Кэнсин. – Поэтому, если бы тебя не затруднило...
– Нисколько, – кивнул Аоси.
Вода тихо пела в котелке, пока он растирал пестиком травянисто-зелёный порошок и отмерял нужную долю в глиняную чашу. Его движения были неторопливыми и точными: немного кипятка, тонкие завитки душистого пара, лёгкая пенка. Ещё кипяток, последнее размешивание, венчик отставлен в сторону. Платок на ладони, и сквозь ткань – тяжёлый, тёплый бок чаши...
Несмотря на густой изумрудный цвет, чай почти не горчил. Едва уловимый терпкий привкус раскрывался мягкой сладостью на языке. Кэнсин сделал глоток и прикрыл глаза: вкус был знакомый. После стольких лет – всё ещё знакомый...
Удзи. В Киото по большей части привозили чай оттуда. Подешевле, с более резким и простым вкусом, пили на каждой улице. Дорогие сорта, вроде этого, подавали в заведениях "для благородных". В том числе – в гостинице, служившей явкой лоялистов из Тёсю, где он прожил почти год под личиной хитокири Баттосая.
Где он познакомился с Томоэ – и потом ещё не раз пил чай, заваренный её руками.
Свежий, тонкий аромат... а горечи уже нет, горечь сошла с души, как струп с зажившей раны. Боль утихла навсегда, осталась лишь грусть. Мимолётная терпкость, несущая в себе обещание сладости.
Аоси терпеливо ждал. Спохватившись, Кэнсин передал ему чашу.
– Прекрасный чай, вот так вот, – тихо сказал он. – Я давно такого не пробовал.
***
Подлинный мастер не позволяет несовершенству обстановки нарушить внутреннюю гармонию. С сожалением Аоси был вынужден признать, что ещё не достиг такого уровня мастерства.
Ему потребовалась немалая доля выдержки, чтобы сохранить спокойствие при виде комнаты, которую Химура приготовил для церемонии. Конечно, нелепо было ожидать, что в захудалом додзё найдётся чайный сад с домиком или хотя бы уединённая беседка. Но даже имея в своём распоряжении всего одну комнату, можно было обставить её с... менее вопиющим убожеством.
Особенно удручало то, что Химура явно старался произвести на гостя впечатление – но именно плоды его стараний повергли бы менее сдержанного знатока в ужас или в безудержный хохот. Чаши для чая были старые – и в этом заключалось их единственное достоинство. В качестве переносного очага Химура приспособил комнатную жаровню-хибати. На тарелках лежали вперемешку леденцы и рисовые пирожные. Но наивысшим воплощением плебейского вкуса – вернее, безвкусицы – были цветы, втиснутые в обрезок бамбука. Несколько растрёпанных хризантем и привядших колокольчиков имели такой вид, словно хозяин отобрал их у соседской козы. А о том, что цветочная композиция должна не только услаждать взор, но и давать пищу для размышлений, Химура, похоже, вообще не подозревал.
Наименьшим разочарованием из всего этого оказалась вода. Чистая, ключевая, немного жёсткая для такого сорта чая – но здесь всегда было трудно найти по-настоящему мягкую воду.
Первую чашу Аоси заварил, пытаясь не обращать внимания на недостатки утвари и посуды. Благо, после службы в замке его высочества такие простейшие вещи, как приготовление чая, он мог выполнять с закрытыми глазами и даже не просыпаясь. Увы, правила хорошего тона Химуре тоже были неведомы, и ждать от него вдумчивого молчания не приходилось.
– Прекрасный чай, вот так вот. Я давно такого не пробовал.
– Благодарю, – сдержанно отозвался Аоси. Как ни странно, чай действительно удался. Хотя он не мог припомнить, чтобы ему когда-либо приходилось готовить благородный напиток в столь неподходящих условиях.
– Твой покорный слуга уже говорил, что не умеет заваривать чай так же хорошо, – снова нарушил молчание Химура. – Но всё же он осмелится предложить тебе ещё один сорт. Это не такой изысканный чай, но, может быть, придётся тебе по вкусу.
– Буду признателен.
Химура даже не стал растирать чайные листья – сыпанул их прямо в заварочный чайник, ополоснул горячей водой, залил снова доверху. С радушной улыбкой придвинул гостю тарелку со сладостями.
Аоси взял леденец, стараясь не показывать раздражения. С мечом в руках Баттосай был великолепен, этого не отнять. Но во всех остальных искусствах, которыми должен овладеть воин, уровень его развития оставался прискорбно низким. Посвятив столько лет поиску внутренней гармонии, он не продвинулся в каллиграфии, не начал писать стихи, не изучил хотя бы основ чайной церемонии. Не попытался возвысить свой разум и чувства, оставшись по большому счёту тем же простодушным и недалёким крестьянином. И этого Аоси никак не мог понять, потому что Химура явно не был обделён усердием и желанием совершенствоваться...
– Прошу, вот так вот, – пока Аоси размышлял, перед ним на циновке оказалась дымящаяся чашка. Он взял её, уже не пытаясь придать этому безумному чаепитию какое-либо подобие надлежащего ритуала. Вдохнул тёплый горьковатый пар – да, изысканным этот сорт нельзя было назвать, но во время скитаний ему доводилось пить и похуже. Не страшно.
Чай оказался терпким и слегка вяжущим, но после первого глотка омывшая язык горечь растворилась, оставив неожиданно приятное послевкусие. Приятное и... знакомое? Откуда?
Он сделал ещё один глоток, другой. Воспоминание было где-то рядом – и медленно прояснялось, словно этот горько-свежий вкус понемногу смывал с него пыль прошедших лет...
Кока.
Вот где он пробовал этот чай в последний раз. Правда, не на чайной церемонии – тогда он и слов таких не знал. Тогда был лишь дымный сумрак деревенского дома, сгорбленная спина бабки у очага, плюющийся на огне чайник и чашка обжигающе горячего настоя – перед тем, как выбежать босиком в предрассветную темень, в метель или под проливной дождь.
День за днём. Год за годом.
Из каждой сотни детей Кока, доживших до двенадцати лет и прошедших все испытания, лишь одному выпадала честь охранять замок сёгуна. Из каждых десяти стражей замка лишь одного допускали до внутренних покоев. И из этих избранных лишь один, сильнейший, мог носить звание командира Онивабан.
Но путь к вершине начинался не из покоев замка, а из старого дома в деревне Кока. С ежедневных упражнений от зари до зари, с разбитых в кровь рук и вывихнутых суставов. С первой одобрительной ухмылки наставника. С первой победы в учебном поединке. С чашки терпкого, круто заваренного чая, в котором горечь причудливо соединялась со сладостью...
– Чай из Цутияма. – Он сжал в ладонях опустевшую, но ещё тёплую чашку. – Я тоже... давно не пил такого.
Химура улыбнулся.
В его улыбке была простодушная радость человека, сумевшего сделать что-то приятное близкому другу. Но Аоси чувствовал, что за этим простодушием кроется понимание, куда более глубокое, чем он мог себе представить. Всего однажды он испытал такую же открытость перед чужим взглядом, такую же общность мыслей. Это произошло в тот день, когда они с Химурой чуть не убили друг друга в подземном лабиринте на горе Хиэй; и тогда тоже не было нужды в словах – речь клинков была яснее любого другого языка.
Внезапно он понял, что улыбается и сам. Поймал удивлённый взгляд Химуры, но сдержать улыбку не смог: слишком простым оказался ответ на так долго мучивший его вопрос.
Химура не пытался обрести просветление в каллиграфии или в чайной церемонии, потому что никогда не придавал значения форме. Вернее, не так – он её просто не замечал. В любой форме он мгновенно распознавал суть, внутреннее содержание – и смотрел лишь на это.
Что имеет значение для того, кто живёт мечом? Только меч.
Что имеет значение для того, кто пьёт чай? Только чай.
Название: Лунной ночью после боя
Размер: мини
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Мёдзин Яхико
Категория: джен
Жанр: hurt/comfort, флафф, немного философии
Рейтинг: PG-13
От автора: Очень старая задумка, даже не вспомню, когда она сложилась у меня в голове. Хотелось покомфортить Химуру после событий 11-й серии и отработать ещё один хэдканон, про обстоятельства его ухода из армии.
А вообще, если задуматься: если бы Томоэ выжила и у них с Кэнсином родился ребёнок - мог бы быть ровесником Яхико, вот так вот...

Сбросил одеяло, зажмурился от яркого света. Луна смотрела с веранды белым выпученным оком, и по полу тянулась сверкающая, как лезвие, полоса, рассекая на две части комнату, храпящего Саноскэ и самого Яхико.
Он прикрыл глаза ладонью и сел. Сердце в груди стучало быстро и гулко, словно от долгого бега.
Там, во сне, по ту сторону темноты, была смерть. Смерть с белым лицом и холодными глазами, с глуховатым бесстрастным голосом и вкрадчивыми змеиными движениями, такими плавными, что он никак не мог различить миг удара. Видел только кровь – во сне её было гораздо больше, чем наяву, она заливала светлый паркет, растекалась тёмно-красным ореолом вокруг упавшего тела. Яхико кричал, но не слышал себя, сон обрывался – и тут же начинался снова: леденящий взгляд зелёных глаз, бесшумное кружение, мгновенный сполох отражённого света на лезвии... Кровь на полу, на красной ткани косодэ, на рыжих волосах...
– Это был сон, – шёпотом сказал Яхико – не себе, а вот этому, бестолково прыгающему между рёбер, будто проглоченная лягушка. – Прекрати трястись.
Но сердце всё равно колотилось, и страх не уходил. Смешной, глупый страх: вдруг он и впрямь перепутал сон с явью? Вдруг ему только приснилось, что Кэнсин жив и они вернулись из особняка Канрю с победой, – а на самом деле...
Лунный свет резал глаза. Яхико сморгнул и тихо встал. Осторожно вышел в коридор. Он понимал, что ведёт себя как дурак, но не мог пересилить тревогу. Он должен был увидеть, что с Кэнсином всё в порядке. Что он спокойно спит...
...а не лежит у себя в комнате с белым платком на лице... как мама тогда...
Взявшись за край сёдзи двумя руками, чтобы створка не скрипнула в пазах, Яхико тихо сдвинул её в сторону и проскользнул внутрь. Луна заглядывала и в эту комнату, из окна на татами падал широкий серебряный луч, и в нём, будто зеркальце, ярко блестела круглая гарда лежащего рядом с постелью меча. Свет струился по ножнам из лакированной магнолии, захватывал краешек одеяла и одну руку спящего, а изголовье оставалось в тени.
Яхико на цыпочках приблизился к постели. Глаза уже привыкли к сумраку, и он мог разглядеть лицо Кэнсина, спокойное и расслабленное во сне. Мог даже расслышать звук его дыхания...
– Яхико? – негромко позвал Кэнсин. – Что-то случилось, осмелюсь спросить?
Как всегда, уловить момент его пробуждения было невозможно. Секунду назад лежал тихо, не ворочаясь, дышал медленно и ровно – а вот уже смотрит поблёскивающими в полутьме глазищами, и левая рука привычным, безотчётным движением скользнула с одеяла на ножны положенного рядом сакабато. Хотя – мелькнула мысль, – нагрянь какая опасность, быстро выхватить меч он всё равно не сможет: правая рука забинтована от запястья до кончиков пальцев. И левая – поперёк ладони. И под юкатой на груди белеют повязки... Мэгуми вчера целую простыню на него извела.
Яхико сглотнул, отгоняя предательскую дрожь в горле.
– Нет... Ничего. Я просто... это... зашёл посмотреть, как ты тут.
– Хорошо, – Кэнсин улыбнулся и убрал руку с меча. – Со мной всё хорошо.
– Ври больше, – буркнул Яхико, пряча беспокойство за нарочитой грубостью. – Какое ещё "хорошо", когда тебя чуть в лапшу не настрогали? – Он смерил друга недоверчивым взглядом.
– Ну... лихорадит немного, – признался тот, натягивая одеяло повыше. – Но это обычное дело, вот так вот. Не беспокойся, пожалуйста.
– Ты, это... – Яхико переступил с ноги на ногу. Ему вдруг стало неловко – вломился среди ночи, разбудил больного, теперь ещё и разговорами донимает... – Тебе, может, надо чего-нибудь?
Кэнсин повернулся на бок. Если бы в доме не было так тихо, Яхико, пожалуй, и не расслышал бы, как он медленно и осторожно выдохнул сквозь зубы при этом движении.
– Я не отказался бы выпить воды, – извиняющимся тоном признался он. – Если тебя не затруднит, осмелюсь сказать...
– Я сейчас! – Чуть не подпрыгнув, Яхико метнулся к двери. – Я мигом!
Мигом не получилось: ведёрко на кухне оказалось пустым. Яхико выскочил во двор, но большая бадья, которой брали воду из колодца, тоже показывала дно, а бросить её в колодец и вытащить обратно у него не хватило бы сил. К счастью, он вовремя вспомнил, что Мэгуми вчера вечером грела воду для промывания ран. В маленьком котелке у очага осталось немного остывшего кипятка – как раз хватило наполнить чашку.
Когда Яхико вернулся в комнату, Кэнсин сидел на постели, набросив одеяло на плечи. Похоже, его знобило.
– Покорнейше благодарю, – пробормотал он, принимая чашку. Выпил воду в несколько длинных глотков и удовлетворённо вздохнул. – Намного лучше, вот так вот.
Яхико хотел улыбнуться в ответ – не получилось. Кэнсин взглянул на него и обеспокоенно склонил голову к плечу.
– Всё в порядке?
Конечно, всё в порядке, хотел ответить Яхико. А как же иначе? И Мэгуми они спасли, и никто из друзей не погиб, и даже раны Кэнсина и Сано оказались несерьёзными – и не было, совершенно не было причин для этой холодной щекотки под ложечкой, от которой сейчас дрожали губы и щипало в глазах.
– Яхико? – теперь в голосе Кэнсина звучала тревога. – Что с тобой, осмелюсь спросить?
Надо было отмолчаться. Уйти потихоньку... объяснить как-нибудь потом, утром. Яхико помотал головой и попытался отодвинуться, но на плечо легла тёплая ладонь – и удержала.
– Это из-за того, что случилось сегодня? – тихо спросил Кэнсин. – Ты в первый раз увидел, как убивают людей?
Яхико помотал головой. Он жил на улице, он поневоле водился с якудза и видел много такого, отчего потом снились дурные сны. Но сейчас его колотило не от воспоминаний о том, как падали синоби, заслоняя командира от пулемётного огня.
Люди смертны – это он осознал со всей ясностью, когда маму вынесли из дома в последний раз. Но, встретив Кэнсина, он заново поверил в то, что смертны – не все.
Так было до встречи с Аоси.
"Нет, – ответил бы он, если бы мог сложить вместе все слова, что теснились в голове. – Сегодня я в первый раз увидел, как убивают тебя. Сегодня я понял, как это паршиво – быть беспомощным, когда рядом гибнет друг. И как это будет невыносимо – потерять тебя. Я больше не хочу, я не согласен тебя терять".
Но слова никак не складывались, и их было слишком много, и почему-то снова перестало хватать воздуха – как он ни крепился, дыхание срывалось на всхлипы; и, сам не понимая, что несёт, он выпалил:
– Кэнсин, ты... обещай, что никогда не умрёшь!
И зажмурился от нестерпимого стыда – так по-детски глупо, сопливо и жалобно это прозвучало.
Но Кэнсин не стал смеяться. Притянул его к себе и обнял за плечи. Яхико уткнулся горящим лицом в шершавую ткань юкаты, вдохнул запах чисто отстиранного полотна – уютный, домашний – и разревелся самым недостойным образом.
Потом слёзы как-то сами собой закончились, оставив только ноющую боль в груди и в горле. Кэнсин не пытался успокоить его. Дождался, когда Яхико отдышится и вытрет щёки. И лишь тогда заговорил – негромко, с непривычной серьёзностью:
– Яхико. Если бы ты был ребёнком, я мог бы солгать тебе, чтобы утешить... или просто отшутиться. Но ты не ребёнок. Ты ученик и наследник школы Камия Кассин. Ты воин, уже смотревший в лицо опасности. И ты сам понимаешь, что я не могу дать такого обещания. Люди умирают, и с этим приходится мириться.
Яхико шмыгнул носом. Кэнсин был кругом прав. Только ребёнок может верить, что смерть заберёт не всех. Просить кого-то не умирать – всё равно, что просить достать луну с неба: глупо и бесполезно.
Но мириться с этим было трудно. И больно. Яхико уже не мог плакать, но чувствовал себя так, словно проглотил большой кусок льда – и холодно, и давит в груди; и вроде бы можно ещё дышать, но жить с этим ледяным комком – нет сил. Рука Кэнсина всё ещё лежала у него на плечах, он чувствовал её вес, её живое тепло; но тепло было всё снаружи, а лёд – внутри, в сердце...
– Яхико, – сказал вдруг Кэнсин. – Ты когда-нибудь слышал про битву при Тоба-Фусими?
От неожиданности Яхико забыл утереть нос.
– Это ещё при сёгуне? – прогнусавил он.
– Почти. Это было в начале войны, до твоего появления на свет. Войска бывшего сёгуна наступали с юга, со стороны Осаки, а мы встали под Фусими, чтобы не пропустить их в Киото. Тогда я в последний раз сражался обычным мечом.
Кэнсин поднял голову к приоткрытому окну, и лунный свет на мгновение посеребрил его волосы, зажёг в глазах острые ледяные огоньки.
– Я помню, как за нами поднялись парчовые знамёна с хризантемами, и сотни голосов закричали: "Победа!" Помню, как отступали враги, завидев императорские знаки. Но я тогда не чувствовал радости. Я думал лишь об одном: наконец-то всё закончилось. Воткнул меч в землю и пошёл, куда глаза глядят.
– И тебя никто не остановил?
– Ну... почти никто. – Лицо Кэнсина опять скрылось в тени, но по голосу можно было угадать, что он улыбается. – Сражение ведь шло в лесу, так что скрыться было нетрудно. Где-то вдали ещё стреляли, потом стало тихо. Я просто хотел убраться куда-нибудь подальше, шагал и шагал, ничего кругом не замечая. И налетел на засаду.
– И как же ты с ними справился?
– Да никак. Меч-то я бросил, а у этих были ружья, так что я просто сбежал. Солнце уже садилось, пошёл снег – в общем, гоняться за мной в темноте они не решились. А я... – Кэнсин смущённо подёргал себя за волосы, – видишь ли, Яхико, я ужасно сглупил. Одной пулей меня всё-таки зацепило, но мне тогда показалось – ничего серьезного, царапина. Ну, я и не стал останавливаться, бежал, пока не стемнело. Даже не понял сначала, с чего это ноги так заплетаются. А потом вдруг смотрю – уже лежу.
Яхико вздрогнул.
– Значит, рана была опасная?
– Нет. Просто надо было сразу перевязать, чтобы кровь остановилась, а я вместо этого бегал по холоду, как дурак. Ещё и подальше от дороги ушёл, в чащу. Ну и свалился там в какой-то овраг. Хотел встать – не тут-то было: голова ещё соображает, а руки-ноги ватные. Тут я и понял, что мне конец. Сам не выберусь – сил уже не хватит, а в овраге, в снегу, до утра точно не дотяну.
– И... что?
– И, знаешь... ничего. Страшно не было, совсем. Говорят, что в такие минуты вся жизнь пролетает перед глазами, но я почему-то вспомнил только последние годы. Вспомнил, сколько людей убил за это время. И подумал, что если умру сейчас – это будет, в общем-то, справедливо. Потому что с сегодняшней победой старая эпоха закончилась безвозвратно. И таким людям, как хитокири Баттосай, лучше уйти вместе с ней.
Он произнёс это очень просто – без горечи, без надрыва, словно говорил, самое большее, о завтрашней погоде. Но у Яхико по спине прошёл колючий холодок. Он ничего не сказал, только сильнее прижался плечом к плечу друга.
– И вот, – продолжал Кэнсин, – пока я лежал там, снегопад закончился, и... Ты когда-нибудь видел, какое чистое небо в горах, в зимнюю ночь?
Яхико помотал головой.
– Я лежал, засыпанный снегом по уши, и радовался, что ещё не закрыл глаза. Что вижу это всё – небо, звезды, серебристую радугу вокруг луны... А луна была тогда на ущербе, и мне вдруг подумалось – а хорошо бы увидеть ещё и полнолуние. И вспомнил... одного человека, с которым мы любовались на полную луну. И что я обещал этому человеку остаться в живых и найти счастье в новом мире.
– И у тебя сразу прибавилось сил? – с замирающим сердцем спросил Яхико. Кэнсин смущённо хмыкнул.
– Да не то чтобы прибавилось... Понимаешь, к тому времени я уже довольно долго пролежал в снегу. Тело онемело – не пошевелиться. Даже досадно стало, что я вспомнил про это обещание, – так хотелось заснуть, отпустить себя... Но это означало бы нарушить слово.
– И что ты сделал?
– Стал звать на помощь. Встать я не мог, но голос-то остался при мне. Я не знал, кто меня услышит, враг или друг, но надо было использовать любой шанс. Мне повезло: рядом проходил человек. Давний союзник Тёсю, кузнец, снабжавший нас оружием. У него как раз кончились дрова, и он вышел в лес, когда затихла стрельба. Он услышал мой крик и пошёл на голос. Помог мне выбраться из оврага, дотащил до своего дома, обогрел и перевязал. Я прожил у него несколько дней. А когда поправился и собрался в путь, он подарил мне на прощание вот этот меч. – Кэнсин погладил свободной рукой ножны сакабато. – Меч, которым я могу сражаться, не отнимая чужие жизни. Который я никогда не брошу на поле боя, убегая от самого себя.
Он поднял меч перед собой, и Яхико понял, что ошибся: несмотря на повязки, рука Кэнсина всё так же легко удерживала на весу тяжёлый боевой клинок.
– В тот раз у меня была только одна причина бороться за жизнь. Теперь, если со мной что-то случится, у меня есть ты. И Сано. И госпожа Каору. – На последнем имени голос Кэнсина потеплел. – Яхико... Я не могу обещать тебе, что никогда не умру – это не в силах человека. Я даже не могу обещать, что не умру до старости – у меня осталось ещё много долгов, по которым могут однажды спросить... Но я обещаю тебе, что никогда не махну рукой на свою жизнь. Не сдамся раньше времени. И если придётся сражаться только за себя – я всё равно буду сражаться до конца. Как за каждого из вас, вот так вот.
Яхико кивнул. Щёки ещё немного жгло от высохших слёз, но страх, этот ледяной комок в груди, – ушёл. Растворился в ясном, как лунный свет, спокойствии. В железно-твёрдой уверенности, наполнявшей голос Кэнсина. В ободряющем тепле его ладони.
– Хорошо, – серьёзно сказал он. – Я принимаю твоё обещание. И обещаю тебе, что тоже всегда буду сражаться до конца. Вчера, если бы ты не встал – я бы сражался за тебя, будь уверен. И за Сано, если бы он попал в беду. И Каору я тоже в обиду не дам.
– Я в этом никогда не сомневался. Ты очень смелый, Яхико, вот только... – Кэнсин опять расплылся в улыбке, – тебе бы ещё подрасти немного...
– Эй, я не понял! – Яхико вскочил, сбросив его руку. – Ты кого тут недомерком назвал?..
– Тихо, тихо, – Кэнсин замахал руками. – Ты же всех перебудишь в доме, вот так вот...
– На себя посмотри! – громким шёпотом закончил Яхико. – От горшка два вершка!
И удалился, оскорблённо вскинув голову и гневно раздувая ноздри.
...Говорят, лунный свет навевает дурные сны. Кэнсина давно не посещали кошмары из прошлого, и в последние годы его сон был спокоен. Но сегодня лунный свет снова мешал, поднимая со дна души старые, старые тени.
Шаги Яхико давно затихли в конце коридора, а Кэнсин всё ещё сидел на постели, заново перебирая в памяти всё, что было сказано, и всё, что осталось невысказанным.
За годы бродяжничества скрытность вошла в привычку. И всё равно, каждый раз, когда начинались разговоры о прошлом, приходилось взвешивать про себя каждое слово, чтобы не сказать лишнего. К счастью, Яхико не стал расспрашивать подробнее о человеке, которому Кэнсин дал обещание выжить. И не допытывался, кем были стрелки, караулившие в лесу. Чистая душа... для него слово "засада" всегда означает "вражеская", и ему не придёт в голову, что может быть и по-другому.
Лунный свет был холодным, как и в ту ночь. Но в одном Кэнсин всё-таки слукавил: сильнее, чем холод, его подкосило тогда осознание того, что за ним охотились свои. Что люди, ради которых он стал чудовищем, решили, что чудовищам не место в новом, справедливом мире.
Конечно, с их стороны было самонадеянно думать, что убить его будет легко. Смерть всегда была его второй тенью. Он привык чувствовать спиной её дыхание, он знал, как легко убивают сталь, свинец или тренированная рука, и научился быть осторожным. Но в ту ночь он впервые сам подпустил смерть так близко. И впервые готов был сдаться ей без сопротивления – именно потому, что поверил в предательство людей, которым доверял безраздельно.
...Сейчас, десять лет спустя, ему было всё ещё стыдно за своё малодушие. Стыдно, что в ту ночь он мог умереть, так и не узнав, что Кацура не отдавал этого приказа. Ни Кацура, ни Ямагата, ни Ито – никто из тех, кого он так легко обвинил в своём сердце, не приказывал стрелять ему в спину.
Кто сделал это без их согласия? Это Кэнсин никогда не пытался узнать. Замкнуться на прошлом и лелеять старые обиды – это было бы немногим лучше, чем замёрзнуть в том овраге. Это означало бы так же бесполезно и малодушно выбросить свою жизнь. Разменять её на месть, на бессмыслицу, на пустоту.
Но, кроме заново обретённой жизни, он получил ещё один важный урок в ту лунную ночь после боя. Он понял, что смерть никогда не бывает лучшим выходом из положения – даже если это положение выглядит невыносимым. Ведь тот, кто умирает, лишает себя возможности узнать, что мир совсем не так плох и безнадёжен, как ему казалось раньше.
Когда-нибудь он расскажет Яхико и об этом. Когда-нибудь – потому что детям приходится взрослеть и узнавать, что есть вещи страшнее, чем смерть, и раны больнее тех, что оставляют следы на коже. Но сейчас – сейчас он, наверное, уже спит, и лунный свет больше не тревожит его сон.
И, по крайней мере, этой ночью ему не будут сниться кошмары.
Название: Поединок
Размер: мини
Пейринг/Персонажи: Химура Кэнсин, Сайто Хадзимэ
Категория: джен
Жанр: повседневность, драма
Рейтинг: G
От автора: Тоже из старых задумок. Хотелось написать по двум причинам: поставить точку в противостоянии Кэнсина и Сайто и обозначить как-нибудь тот факт, обычно проходящий мимо внимания зрителя, что Сайто и отец Каору, вообще-то, сражались вместе в войне Сейнан. И даже, может быть, в одном подразделении (если Камия присоединился к полицейским, а не гражданским добровольцам).

Калитку открывает женщина, не столь похожая на бодхисаттву, как ему представлялось, но красивая и полная достоинства. Она не удивляется, увидев за поясом гостя меч, и не задерживает взгляда на шрамах на его лице. Кажется, ничто в этом мире не способно выбить её из равновесия или хотя бы потревожить прядь волос в безупречно уложенной причёске.
– Если вы пришли навестить Эйдзи, то он ещё в школе, – улыбается хозяйка. – Проходите в дом, пожалуйста, отдохните.
В её приветливой улыбке – спокойствие, в глазах – понимание. И можно не сомневаться, что в стенах этого дома нет места тайнам и недомолвкам – по крайней мере, между главой семьи и его супругой. Крепость, защитники которой не доверяют друг другу, рано или поздно падёт; но Сайто никогда не совершил бы такой ошибки.
– Благодарю за предложение, – с ней легко разговаривать, потому что нет необходимости лукавить. – Могу ли я увидеть господина Фудзиту?
Хозяйка провожает его в дом, предлагает свободную подставку для меча и отодвигает боковую дверь. Кэнсину приходится сделать над собой усилие, чтобы не выдать удивления: всё-таки, Волк в кругу семьи – зрелище не совсем обычное.
Сайто, сидящий на полу в мягкой домашней юкате, не удивляется вовсе. Спускает с колен двухлетнего карапуза с круглой мордашкой и знакомо оттопыренными ушками и, слегка подтолкнув в спину, отправляет его к матери. Кэнсин отступает с дороги, пропуская малыша, и тот сосредоточенно топает мимо. Госпожа Фудзита поднимает сына на руки и исчезает.
– Раз уж пришёл, – говорит Сайто вместо приветствия, шаря по рукавам в поисках портсигара, – то, может, хоть чаю выпьешь?
...Потом они сидят на веранде, выходящей на маленький, но ухоженный до последней травинки сад, и осеннее солнце согревает выскобленный до блеска дощатый пол, а над чашками вьётся кисейный пар, смешиваясь с табачным дымом; и если взглянуть со стороны, то можно подумать – два старых друга предаются неторопливой беседе.
– Юкисиро так и не нашли, – Сайто мнёт папиросу в худых цепких пальцах. – Объявили в общий розыск, но я не особенно надеюсь на успех. В конце концов, он мог и утонуть.
Твой безумный родственник ещё жив, слышит Кэнсин. И может остаться в живых, если ему хватит ума залечь на дно и не высовываться, пока его не объявят мёртвым.
Это ответ не на тот вопрос, ради которого Кэнсин пришёл сюда, – но это хорошая новость. Жест вежливости по отношению к собеседнику. Поклон перед началом боя.
– Даже если он выжил, – Кэнсин греет ладони о чашку, – едва ли он ещё опасен. Твой покорный слуга видел его глаза после сражения. Это были глаза человека, у которого нет ни сил, ни желания причинять кому-то боль. В его душе осталось очень мало от прежнего Юкисиро Эниси, вот так вот.
Ты выполнил свой долг, слышит Сайто. Преступника, за которым ты охотился, больше нет. И разве важно, что арестованный сбежал, если зло – уничтожено?
...ответный поклон.
Холодный ветер шумит листвой в саду – но до настоящих заморозков ещё далеко. Ещё не скоро эти клёны окрасятся в цвет крови.
Кэнсин отставляет пустую чашку. Прямо смотрит в жёлтые глаза напротив.
– Твой покорный слуга благодарен за угощение. Однако он не собирался напрашиваться на чай, он пришёл лишь справиться о твоём здоровье.
Перемена темы – ничем не замаскированная, открытая, как боевая стойка.
Я знаю – ты получил мой вызов. Я знаю – ты хотел этого боя.
Что помешало тебе прийти?
Сайто хмыкает, выпуская тонкую струйку дыма.
– На твоём месте я бы в первую очередь заботился о собственном здоровье.
Прищуренный взгляд режет, словно направлен вдоль поднятого клинка. Ответная стойка; высокая, атакующая позиция. Пока ещё не удар – но уже ясно, куда он будет направлен. И ясно, что отразить его не удастся.
– Оро? – брови домиком, глаза распахнуты – невинное удивление во взгляде. Защитная реакция – отступить и загородиться.
– Я пару недель назад приходил, хотел снять с тебя показания касательно Юкисиро и его возможных укрытий. В таком деле бывает полезно опросить тех, кто лучше всего знает преступника. Такани не пустила меня в дом.
– Твой покорный слуга ничего не знал об этом... – Растерянная улыбка. Уход с линии атаки; если не можешь отразить – уворачивайся...
– А ты и не мог знать. Ты валялся в горячке после той трёпки, которую тебе устроил твой любящий шурин... ах, да, ещё и после пули в плечо. Вполне уважительная причина, на мой взгляд.
Усмешка. Выпад, пока ещё не в полную силу.
– Такани выставила меня в не самых почтительных выражениях. И между словом обмолвилась, что при таком раскладе тебе скоро придётся забыть о фехтовании – и чтобы я имел это в виду, когда в следующий раз потащу тебя на охоту за каким-нибудь сумасшедшим мастером меча.
Кэнсин молчит.
Приятно поговорить с человеком, который понимает тебя с полуслова. Приятно и помолчать с тем, кому для понимания не нужны слова.
Ты послал вызов, потому что узнал, что скоро не сможешь сражаться?
Да. Но не только поэтому.
Ты не принял мой вызов, потому что узнал о моём состоянии?
Да. Но не только поэтому.
Вопрос-зеркало. Ответ-отражение. Ничейная, выжидательная позиция, и кто первым сделает движение навстречу – поддастся.
– По словам госпожи Мэгуми, всё не так уж плохо, – Кэнсин аккуратно ставит чашку на блюдце. – У вашего покорного слуги ещё есть время, прежде чем ему придётся всерьёз задуматься о своём здоровье.
– Тогда моя совесть чиста.
Пристальный взгляд в упор. Блок – и новый выпад.
Куда же ты в таком случае торопишься? Почему этот бой нужен тебе – сейчас?
На губах бывшего хитокири – улыбка, в глазах – бесприютный холод, и пустота, и молчание ночной дороги.
– Значит, снова собираешься в путь? – небрежный тон, небрежная усмешка прячут настоящий вопрос, как лезвие в "стойке решимости".
Опять сбегаешь? Поэтому и решил напоследок раздать старые долги?
Взгляд уходит вбок, словно отбитый на контратаке меч, и улыбка на миг становится напряжённой, болезненной. Один-ноль – удар пропущен.
– Этот год... был непростым. Хитокири Баттосай нажил много врагов, и твой покорный слуга не может этого изменить. Но он может сделать так, чтобы от этого не страдали те, кто рядом.
Сайто затягивается. Стряхивает с папиросы столбик пепла.
Эта история с девчонкой Камия так сильно повлияла на тебя?
Кэнсин опускает ресницы. Клинок отведён – он открыт для атаки, но Волк не спешит этим воспользоваться. Огонёк папиросы плавает в его ладони, как светлячок.
– Нельзя давать прошлому слишком много власти над собой. Если события десятилетней давности становятся для тебя важнее сегодняшнего дня, ты конченный человек. На этом и погорел Сисио.
– Не он один, должен я сказать. – Кэнсин не любит такого юмора, но ироничная улыбка Сайто заразительна. – Удо, Сигурэ...
– И твой шурин тоже. Их погубила зависимость от прошлого.
Тот, кто некогда звался Баттосаем, согласно опускает глаза.
И – молниеносный, как иаи, взгляд из-под ресниц; высверк клинка, мгновение назад скрытого в ножнах.
Ты не принял мой вызов, потому что боялся ступить на тот же путь? Потому что понял, что незакрытый счёт к Баттосаю становится для тебя ошейником, привязывающим к прошлому? А ты не терпишь ошейников, Волк, – уж я-то знаю...
Вдох. Медленный, сквозь зубы; очередная струйка дыма запаздывает на несколько секунд.
Один-один, Баттосай.
– В конце концов, это твоё дело, – Сайто тоже умеет держать удар. – Гулять на вашей свадьбе я всё равно не собирался.
– Твой покорный слуга прислал бы приглашение, но на приглашения ты в последнеее время не отвечаешь.
Быстрый укол от локтя. Не достал – в этом месте уже никого нет.
– Пока вы двое будете разбираться в своих чувствах, пройдёт ещё немало времени. А меня переводят к зиме.
Перемена стойки. Из атаки в оборону. Дразнит, будит интерес, хочет выманить на атаку...
– Куда, осмелюсь спросить?
– Далеко. – Безразличная усмешка. – На север.
...Глухая защита. Губы улыбаются, но взгляд убегает вдаль, в никуда. Не даёт себя коснуться.
– Нельзя давать прошлому слишком много власти, – повторяет Кэнсин.
Сокращение дистанции. Выпад, пока ещё осторожный...
– Но у каждого из нас есть могилы, которые надо иногда навещать. Да?
Отрывистый выдох сквозь зубы. Улыбка стирается, превращаясь в оскал.
Удар в спину, Баттосай.
– Извини, – Кэнсин низко опускает голову. – Это было невежливо.
Табачный дым плывёт над столом. Хорошо, когда собеседник понимает тебя без слов: можно не говорить вслух, куда ему следует засунуть свои извинения.
Сам догадается.
Один-два.
– Твой покорный слуга благодарен тебе за совет. Он понял... что ему ещё нужно многое обдумать. – Кэнсин снова смотрит в глаза Сайто и снова открыт. Приглашает в атаку. Ну что же, сам напросился...
– В таком случае... – Сайто поднимается из-за стола, – подожди одну минуту.
Он выходит с веранды и возвращается ровно через шестьдесят секунд. Кладёт на стол небольшую фотокарточку.
– Раз уж на вашу свадьбу я не попаду, – атака в открытую, в полный размах, но у противника просто нет шансов, – будь добр, передай это госпоже Камия в качестве подарка от меня.
Кэнсин смотрит на фотографию, на группу людей в военной форме – и в эту минуту его можно брать голыми руками. Чистая победа, хотя оружие – не вполне обычное.
– Это... откуда?
– Выпросил у приятеля из Токийского добровольческого. Он сперва жался, но я сказал, что дочь Камия-сэнсэя выходит замуж.
– Оро?
– Её отец, дубина. Они фотографировались вместе с однополчанами перед отправкой на фронт. У неё ведь нет ни одной фотографии отца.
Кэнсин смотрит. И моргает. И смотрит снова.
– Сайто, – у него, кажется, сел голос. Как от удара боккэном в нагрудник в полную силу. – Спасибо.
– Пожалуйста, – ухмыляется Волк.
...Два-два.